Баллада о режиссере
Григорий Наумович Чухрай родился 23 мая 1921 года в Мелитополе Днепропетровской (ныне — Запорожской) области. Родители Григория Наумовича прожили вместе недолго. В 1924 году они разошлись. Григорий остался с матерью. Воспитывал его отчим — Павел Антонович Литвиненко, который работал председателем колхоза. В 1935 году он был направлен на учебу в Москву. Когда же по окончании академии в 1938 году родители были направлены на работу в Украину, Григорий остался в Москве, чтобы окончить школу. В 1939 году он уехал к родителям на Синельниковскую селекционную станцию и в конце года того же был призван в армию.
В первые дни Великой Отечественной войны он находился в 1-й запасной стрелковой бригаде. В августе 1941 года был объявлен набор добровольцев в воздушно-десантные войска. Григорий подал рапорт, и командование удовлетворило просьбу. Так Григорий Чухрай стал десантником и попал на фронт.
До конца войны он воевал в составе разных частей ВДВ. Участвовал в боях на Южном, Сталинградском, Донском, 1‑м и 3‑м Украинских фронтах. В декабре 1945 года в звании гвардии старшего лейтенанта уволен в запас по ранению.
«Мне в жизни очень везло. Мне везло на войне: я трижды был ранен, а все-таки жив и не калека. И в кинематографе мне повезло. Первые же мои картины были замечены и у нас, и за рубежом, получили много международных премий и до сих пор смотрятся. Мне грех жаловаться на судьбу». Г. Чухрай
Дебют
Осенью 1946 года Григорий Чухрай поступил во Всесоюзный институт кинематографии на режиссерский факультет в мастерскую С. Юткевича — М. Ромма. Практику проходил в качестве ассистента режиссера на картине Ромма «Адмирал Ушаков». После окончания учебы в 1952 году, несмотря на то, что ему предлагали остаться на «Мосфильме», Чухрай поехал на Украину. Там два года проработал ассистентом режиссера. В 1955 году по ходатайству Пырьева и Ромма Чухрай был переведен на «Мосфильм», на котором проработал до конца жизни, и приступил к созданию первого самостоятельного фильма по повести Б. Лавренева «Сорок первый» с Изольдой Извицкой и Олегом Стриженовым в главных ролях.
Этот фильм, впоследствии снискавший огромное количество наград, на Каннском фестивале получил приз за оригинальный сценарий, гуманизм и поэтичность экранного воплощения. А Чухрай был признан выдающимся мастером режиссуры периода оттепели.
Впоследствии Григорий Наумович вспоминал: «Если бы эта лента была выпущена двумя годами раньше, мне пришлось бы несладко. Но мне повезло: когда мы снимали наш фильм в Каракумах, состоялся ХХ съезд партии».
«Баллада о солдате»
Сценарий «Баллады о солдате» Чухрай писал вместе с Валентином Ежовым, своим товарищем, выпускником ВГИКа и тоже фронтовиком.
«Баллада о солдате» — название дано не зря. Фильм построен как баллада, когда начало и конец образуют некое кольцо, в которое заключено содержание, развертывающееся также по поэтическим законам. Начинает и завершает балладу солдатская мать, мать героя фильма, 18-летнего Алеши Скворцова — совсем еще молодая женщина с прекрасным лицом. Во вдовьем черном платке каждый день выходит она на околицу села и вглядывается в пыльную дорогу в надежде, что вернется ее мальчик. Но мы уже знаем, что он не вернется никогда. И все дальнейшее течение фильма — это путь Алеши Скворцова, связиста, который ухитрился подбить два вражеских танка, за что и получил у начальства награду — отпуск на неделю домой: починить матери прохудившуюся крышу. Путь Алеши в родное село — метафора всей его коротенькой жизни, и расположен между двумя этими точками на дороге. Все сжимается и сжимается, как шагреневая кожа, отпускной срок, все новые и новые встречи, препоны и внезапности готовит Алеше военный путь, и бежит-бежит солдат к заветной цели. И бежит за ним музыкальная тема, простенькая, веселая, на стаккато — счастливая для фильма удача композитора Михаила Зива. Две минуты, пока гудел, торопился грузовик, подкинув Алешу на последнем отрезке пути, виделись мать и сын, чтобы расстаться навсегда.
За гибелью одного из миллионов, рядового, обыкновенного солдата Красной Армии, ничего особенного на войне не совершившего, за этой резко оборванной судьбой раскрыта огромная трагедия — потеря драгоценнейшей жизни человеческой. По сути дела, фильм — это баллада не о солдате, а о человеке, принужденном историей стать солдатом. «Баллада о солдате» проникнута светлой печалью о невозместимых утратах военного поколения. Студент ВГИКа, Володя Ивашов, счастливо найденный Чухраем, обессмертил себя ролью Алеши.
«Баллада о солдате» появилась на Каннском фестивале в 1960 году, когда Федерико Феллини показал «Сладкую жизнь», Антониони — «Приключение», Ингмар Бергман — «Источник». Некоммуникабельности, отчуждению — этим главным мотивам западного искусства, прозвучавшим с таким широким и трагическим размахом, «Баллада о солдате» противопоставила свою веру; сложности — простые истины, оплаченные жизнью; всеобщей относительности — верное знание того, что хорошо, а что плохо; изображению трагического одиночества человека — добро, любовь и людские связи, возникающие даже в аду войны, ибо они есть естественная потребность человека.
Потом рассказывали, смеясь, про мосфильмовские заключения о «Балладе» или годовой отчет, в котором картина была поставлена чуть ли не на последнее место, далеко после жалкой «Черноморочки». Но все же «Баллада о солдате» любезно рекомендовалась для армейского зрителя. Стали одиозными редакторы имярек, которые предлагали Алешку Скворцова оставить в живых…
Просветленная классичность в сочетании с редкостной задушевностью — свойство режиссуры Григория Чухрая, его следующих фильмов: драмы «Чистое небо» об отверженном и реабилитированном летчике-герое, повести о чете любящих и одиноких «Жили-были старик со старухой» и других.
Фильмы Чухрая «Сорок первый», «Баллада о солдате», «Чистое небо», «Жили-были старик со старухой» вошли в список ста лучших фильмов мирового классического кинематографа.
Не только режиссер
Но вклад в отечественную культуру Григория Чухрая — великого кинематографиста — не исчерпывается только его картинами. У него были и другие миссии, другие грани таланта и личности.
В анналах кино живет легенда, она же непреложный факт, как на некоем высшем государственном советском собрании в Кремле Чухрай вступил в прямой поединок с самим Никитой Хрущевым, который, как известно, «за словом в карман не лез» и в выражениях не стеснялся. Хрущев хотел закрыть Союз кино «за ненадобностью». Пламенная речь Чухрая — оратора милостью Божией — повергла в прах самого генерального секретаря: киносообщество осталось жить. И всюду, где бы ни выступал Чухрай, победа оставалась за ним — и в Москве, и в Париже.
В конце 1960‑х этот человек огромной творческой энергии пробует себя на новом поприще: он организует новаторскую по тем временам структуру кинопроизводства: внутри системы Госкино СССР она должна была работать на хозрасчете, от доходов с проката фильмов. «Экспериментальная творческая киностудия при «Мосфильме» собрала талантливых людей.
На «студии Чухрая», как называли ее кинематографисты, были поставлены картины «Не горюй», «Белое солнце пустыни», «Белорусский вокзал», «Солярис» и другие фильмы — гордость советского кино!
Но при всем своем влиянии и даре убеждения Чухрай не смог спасти свое детище от закрытия, причиной чего была подозрительность советского начальства ко всему, что намекало на «частную инициативу»: оттепель оттепелью, а идеологию размывать не позволено!
Проекты перестройки кинодела, которые предлагал Чухрай один за другим, отвергались. А тем временем сердечная болезнь подкрадывалась к нему, раны войны давали себя знать все сильнее. Уже тяжелобольной Григорий Наумович взял на себя руководство мастерской на Высших курсах режиссеров и сценаристов. Ученики его не просто любили — преклонялись перед ним…
Такая любовь
Кстати, война стала для режиссера событием в жизни, повлиявшем на всю его судьбу. Именно на фронте на Северном Кавказе он познакомился с девушкой Ирой, которая рыла противотанковые рвы.
Позже она вспоминала: «Я увидела его лицо. Вернее, глаза, они в упор смотрели на меня. Это был не просто взгляд, а такой… целеустремленный».
Они проговорили весь вечер. Вспыхнуло чувство. А потом в город пришли немцы. Чухрая перебросили на другую позицию, а Ирина осталась на оккупированной территории. Тогда казалось, что они расстались навсегда.
Два года Чухрай ничего не знал о своей невесте. Писал в Ессентуки после того, как его освободили, но письма оставались без ответа. Надежды встретиться уже почти не было. Спасла газета, опубликовавшая трогательную и похожую на тысячи других историю Чухрая: «Я с каждым днем теряю надежду когда-нибудь найти ее, — писал солдат.
— И вместо этой надежды в сердце растет ненависть, растет необходимость видеть кровь врага».
Но Ирина увидела письмо. Ответила. Вот только встретиться снова не удалось: Чухрай был ранен и лежал в госпитале. После выписки он приехал в Ессентуки, и пара сыграла долгожданную свадьбу. По случайному совпадению это произошло 9 мая 1944 года. А потом он вернулся на фронт…
Через два года после свадьбы у них родился сын Павел, еще через пятнадцать лет — дочь Елена. Получилось так, что дети разделили отцовское кинематографическое «наследство» поровну: каждому понадобилось свое. Павел, выучившись на оператора, все же стал, как и отец, режиссером — и преуспел. Елена, киновед по образованию, владеет актерским агентством.
* * *
Последние годы Григорий Наумович тяжело болел. Он перенес несколько инфарктов, после которых долго восстанавливался, ему стало сложнее передвигаться. Но до последнего дня он занимался своим любимым делом. Писал мемуары, смотрел новое кино…
Режиссера не стало в конце октября 2001 года. Он похоронен в Москве на Ваганьковском кладбище.
Подготовила Виктория СЕРГЕЕВА




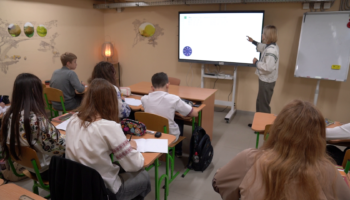
 Випуск № 128 (1043) від 23.10.2025
Випуск № 128 (1043) від 23.10.2025






