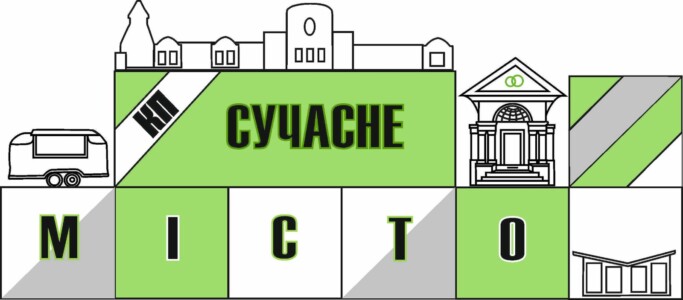Григорий Поженян: Я не гость, не приезжий…
Далее — ничего личного, а токмо в плане оказания культурной помощи Одессы — Харькову из Одесского литературного музея, Одесского Морского музея (несмотря на то, что он не первый год закрыт после пожара, исследовательская работа в учреждении ведется по-прежнему) и Музея кино Одесской киностудии сие сообщение.
Григорий Михайлович Поженян — советский, российский, украинский поэт-фронтовик родился 20 сентября 1922 года в Харькове в семье интеллигентов. Его отец был директором Института научно-исследовательских сооружений, мать — врачом. В 1939 году юный Григорий, окончив среднюю школу № 6, ту самую, в которую через 4 года пришла первоклассницей Людмила Гурченко, ушел служить на Черноморский флот. Воевал с первого дня войны в Первом особом диверсионном отряде, первыми же всегда упоминал в автобиографии и первый взорванный мост в Варваровске под Николаевом и последний — в Белграде. Писать стихи и печататься начал еще на войне. Был корреспондентом газеты «Красный черноморец», о чем в своей книге «В осажденном Севастополе» П. И. Мусьяков написал: «Здесь, в Севастополе, и прежде всего во флотской газете раскрылось недюжинное дарование краснофлотца-разведчика Григория Поженяна». Многие эпизоды из своей фронтовой жизни поэт отобразил в стихах, песнях и киносценариях, а за геройские действия был награжден многими орденами и медалями, среди которых два ордена Отечественной войны I степени, орден Красной Звезды, так называемый «Южный бант» — комплект медалей «За оборону Одессы», «За оборону Севастополя», «За оборону Кавказа»; дважды представлялся к званию Героя Советского Союза… В 1946 году Григорий Поженян поступил в Литературный институт им. Горького, который окончил только в 1952‑м, поскольку его дважды исключали за поддержку опальных друзей и учителей — Павла Антокольского и др. Первой книгой Поженяна стал сборник стихов «Ветер с моря» (1955), затем с 1971‑го по 2005-й год вышли еще 11 сборников стихо-
творений и поэм; последнее прижизненное издание — «Вот так улетают птицы». Также были выпущены 4 пластинки с записями стихов и песен поэта.
Песенное наследие Поженяна заслуживает отдельного тщательного исследования и описания, сейчас вы поймете, почему. Более 60 песен, музыку для которых писали композиторы А. Петров, А. Эшпай, Ю. Саульский, Ю. Энтин, Э. Колмановский, В. Баснер, кинорежиссер П. Тодоровский и др. входили в репертуар И. Кобзона, М. Кристаллинской, Л. Лещенко, М. Магомаева, Э. Хиля, О. Анофриева и иных исполнителей. Но, позволю предположить, даже не это было главным, а то, что они были на слуху у народа. Кто не вздыхал, слушая песню «Два берега» (муз. Эшпая) из кинофильма «Жажда»?
Ночь была с ливнями и трава в росе.
Про меня «счастливая!» говорили все.
Я ждала и верила сердцу вопреки,
Мы с тобой — два берега у одной реки…
А кто не подтягивал «Песню о друге» (муз. Петрова) из картины «Путь к причалу»?
Если радость на всех одна — на всех и печаль одна.
Море встает за волной волна, а за спиной спина,
Здесь, у самой кромки бортов, друга прикроет друг,
Друг всегда уступить готов место в шлюпке и круг…
Да, многие песни Поженяна были широко популярны, большая их часть написана к кинофильмам. А фильмография автора состоит из 18 кинокартин, заглянув в которую, вы, наверное, немало удивитесь тому, что прекрасно знаете и песни, и картины, в которых они звучат, но по лености или, извините, невежеству, даже не догадывались, что они принадлежат его перу, среди которых «Сильнее урагана» (1960), «Гибель эскадры» и «Над нами Южный крест» (1965), «Тигры на льду» (1971), «Следую своим курсом» и «Какая у вас улыбка» (1974), «Кольцо из Амстердама» (1981), «Разбег» и «Взять живым» (1982), «По главной улице с оркестром» (1986). В этом перечне особое место занимают 7 песен, написанных М. Таривердиевым к кинофильму «Прощай» (1966), составивших цикл «Семь песен-речитативов», и стихи к песенному циклу из музыки Ю. Саульского к спектаклю «Глазами клоуна», поставленному по одноименному роману Генриха Бюллена на сцене театра им. Моссовета (1968). После эти песни звучали не раз с театральной сцены в исполнении Геннадия Бортникова, в свой репертуар их также включили В. Ободзинский, Е. Камбурова, В. Никулин, А. Градский, В. Леонтьев.
А за что же одесситы почитают поэта и полагают его не просто своим, а настоящим одесситом? За беззаветную любовь к Жемчужине у моря. За то, что, родившись не в Одессе, он так почувствовал и полюбил город и его людей, что сумел написать сценарии к кинокартинам, особенно дорогим сердцу одесситов —
«Жажда» (1959) и «Поезд в далекий август» (1971). После выхода на экран фильма «Жажда» студию ждал большой успех, поэтому история его создания заслуживает особого внимания. В Одессе на улице Пастера на здании холодильного института укреплена мемориальная доска: «В цьому будинку пiд час оборони Одеси в 1941 р. мiстився загiн морякiв-розвiдникiв одеського оборонного району. В боротьбi з ворогом особливо вiдзначились: Алексеєв Василь, Безбородько Олег, Зуц Арсенiй, Калина Олексiй, Конвiсер Лазар, Макушева Ганна, Поженян Григорiй, Рульов Костянтин, Сурнiн Михайло, Твердохлiб Петро, Урбанський Георгiй, Гура Iван, Нестеренко Левон». Это доска — вторая, на месте первой, которая была снята со стены сразу же после выхода на экран фильма «Жажда». Потому сняли, что на ней было написано: «Отсюда ушли, чтобы дать осажденному городу воду, и погибли…» и перечень тех же фамилий. Но оказалось, что погибли не все. Выжил матрос Григорий Поженян, хотя был дважды ранен и один раз контужен, но после ранения благополучно довоевал до Победы, стал известным поэтом-фронтовиком. Он писал:
Если б душа отделялась от тела,
Сколько бы чаек ко мне прилетело…
Если б душа отделялась от тела,
Я не ходил бы тайком на Пастера.
В дом, где живут все друзья неживые,
Где не лежат и цветы полевые…
Память бойца настоятельно требовала воскресить друзей-героев, чтобы о них узнала страна. И Поженян пишет первый в своей жизни киносценарий о том, что было. И сохраняет подлинные имена. Кроме своего. Себя он назвал так, как звали его тогда друзья — Уголёк. Ставить этот фильм берется Евгений Ташков, заслуженный деятель искусств Украины, народный артист СССР, тот самый, который поставил картины «Приходите завтра», «Майор Вихрь», др., а за телесериал «Адъютант его превосходительства» стал лауреатом Госпремии. Правда, Евгений Иванович окончил актерский факультет ВГИКа, но актерское образование только помогало ему в освоении режиссерской профессии. «Жажда» стала такой первой его самостоятельной работой, и, конечно, из студийных работников он выбрал себе в картину ВГИКовцев: оператора Петра Тодоровского, художников Музу Панаеву и Анатолия Овсянкина, актеров — Славу Тихонова, Юру Белова, Валю Хмару. В основу фильма легли подлинные события военной истории города, напоминать о них стоит разве что не одесситам, одесситы же в третьем поколении знают их наизусть: август 41 года, Одесса в кольце блокады. Насосная станция, что питает город днестровской водой, находится в Беляевке, в руках у немцев. Изнурительная жара, и город, а также войска, защищающие Одессу, изнывают от жажды. Редкие артезианские скважины, дворовые колодцы — все на учете, в городе введена карточная система на воду. Каждой семье на сутки полагается, как указано в карточке, «1 / 2 ведра воды». Чтобы разрешить эту проблему, создается небольшой отряд морских пехотинцев, их задача: тайно проникнуть за линию фронта, захватить насосную станцию и, насколько позволит ситуация, качать городу воду. Ситуация, конечно, могла позволить ровно столько, сколько сумеют продержаться живыми наши моряки. Двое суток в неравном бою, защищая водокачку и неся потери, держались ребята. Двое суток Одесса получала воду, делала запасы… После выхода на экран этот фильм для Одессы стал таким же значительным, как и само событие, в нем отраженное, а оператор Петр Тодоровский на Всесоюзном кинофестивале (1969) получил награду за лучшую операторскую работу года.
Кроме «Жажды», по сценариям Григория Поженяна были сняты еще два фильма о войне — «Прощай» и «Поезд в далекий август». В картине «Прощай» автор сценария попробовал себя и как режиссер. В ней, оставаясь верным своей постоянной теме — мужское достоинство и честь, Поженян нашел и совершенно необычное режиссерское решение: напряженное драматическое действие сопровождалось музыкальными вкраплениями речитативов. На слова Поженяна их написал и исполнил уже популярный (хотя и не было еще «Семнадцати мгновений весны») Микаэл Таривердиев.
Следующим ярким произведением о войне стал фильм по сценарию Поженяна «Поезд в далекий август». Необычный по форме художественно-документальный фильм о героической обороне Одессы, где в первые же секунды зритель видит, как по безлюдной лестнице без начала и конца, — конечно, Потемкинской — взбегает молодой боец в плащпалатке. Он не просто торопится, он спешит увидеть боевых друзей и боится только одного: опоздать, не застать их живыми. За кадром в это время звучат пронзительные стихи автора-воина в исполнении главного героя (А. Джигарханян):
Я не гость,
Не приезжий,
Не искатель затей.
Кто ж я: гул побережий,
Соль набухших сетей,
Боль ладоней растертых,
Смутный ропот полей
И летящий над портом
Легкий пух тополей.
Я сюда не с речами,
Не за праздным житьем.
Мне не спится ночами
В сытом доме моем…
Как известно, Одесса оборонялась, если не считать Ленинграда, дольше других городов страны — 72 дня. В 1971 году, когда исполнилось 30 лет со дня героической обороны, в Одессу были приглашены со всей страны еще живые участники обороны. «Бойцы вспоминали минувшие дни и битвы, где вместе сражались они…», а кинематографисты снимали не только хронику этих встреч, но и реконструировали события в жанре игрового кино, с актерами. Первый признак художественного фильма — яркие образные решения. Надолго запомнился такой эпизод: когда была дана команда город сдать, вся армия эвакуировалась морем на судах Черноморского пароходства и на боевых кораблях. Эвакуировали и кавкорпус, но места для лошадей на плавсредствах не было. Оставшиеся в городе сотни лошадей потерянно бродили по улицам. Мечущиеся кони на площади перед оперным театром — один из самых эмоциональных эпизодов фильма, снятого режиссером Вадимом Лысенко…
На Одесской киностудии о Григории Поженяне родилось и несколько баек (а о ком не родилось, спросите? Правильно, о том, кто не достоин этого!) Например, художник Борис Биргер, работавший с Григорием Михайловичем в Ялте на картине «Прощай», рассказывал, как автор выставил из группы популярного и ставшего зазнаваться Олега Стриженова за то, что тот постоянно приходил на съемочную площадку под шафе: «Вы свободны, можете на съемки больше не приходить!» — прогромыхал Поженян. «А никуда не денетесь, я утвержден и со мною уже большая часть крупных планов снята», — съязвил в ответ артист. Но сопостановщик картины Поженян не поленился и переделал все, что только было возможно, и Стриженова ни на какие досъемки не позвали. Еще рассказывают, как однажды сын Екатерины Савиновой и Евгения Ташкова Андрей, теперь заслуженный артист России («Камертон», «Сыщик», «Дорогой Эдиссон!», др.) чуть не поссорил режиссера фильма «Жажда» с автором сценария. А дело было так: во время съемок этой картины Григорий Поженян часто по-дружески заходил домой к Ташкову пообедать. Как-то вся семья трапезовала за общим столом, а маленький Андрюша, как и большинство детей в его возрасте, ел плохо. Напротив же уплетал за обе щеки Григорий. Папа, желая подбодрить сына, сказал: «Андрюша, кушай, как дядя Гриша, вырастешь, будешь таким, как он». Ответ по-
следовал молниеносно: «А я не хочу, как дядя Гриша. Он маленький и надутый…»
Между тем, и это уже не байка, легендарный адмирал Ф. С. Октябрьский сказал о Георгии Поженяне, встретившем войну краснофлотцем и закончившем ее в звании капитан-лейтенанта, буквально следующее: «Более хулиганистого и рискованного офицера у себя на флотах я не встречал. Форменный бандит!» Кто знает, может быть, по причине, понятной только жителю портового города, умеющего оценить сказанное самим адмиралом, одесский кинорежиссер Вадим Костроменко будто вторит флотоводцу: «Григорий Михайлович Поженян, поэт, сценарист, режиссер, романтик моря — человек долга, чести. Тверд в принципиальных вопросах и не только в искусстве. У него было много друзей, и я был далеко не в первых рядах. Но то, что эмоционально досталось мне от нашей дружбы, переоценить невозможно».

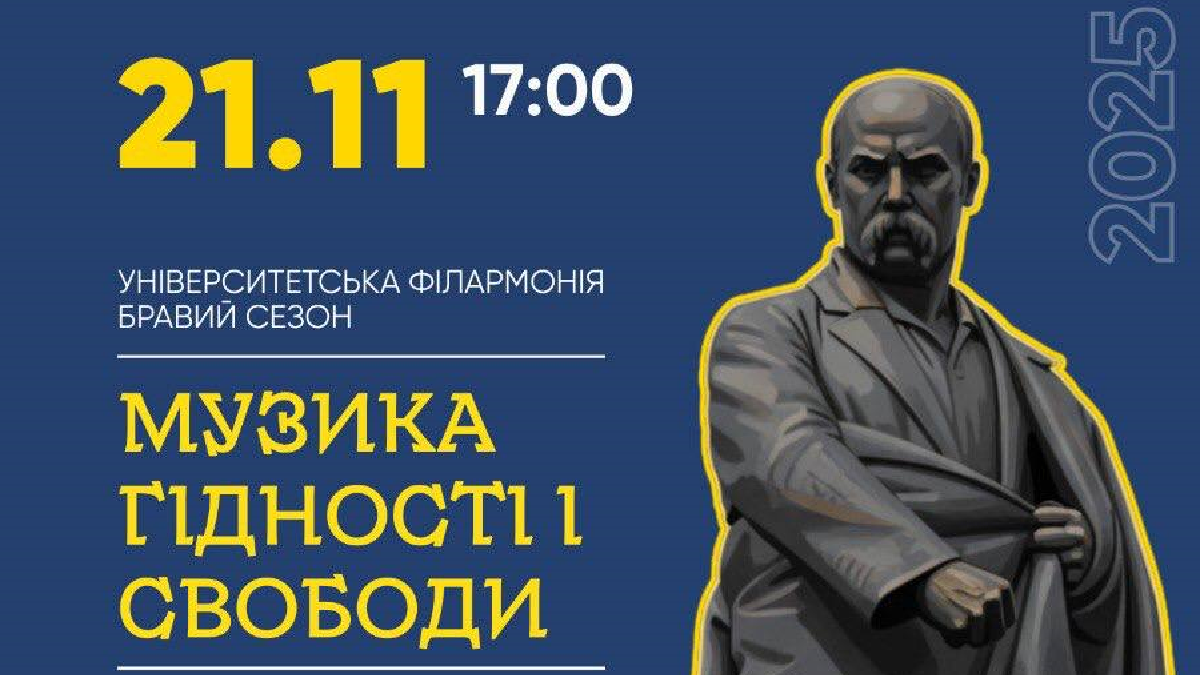
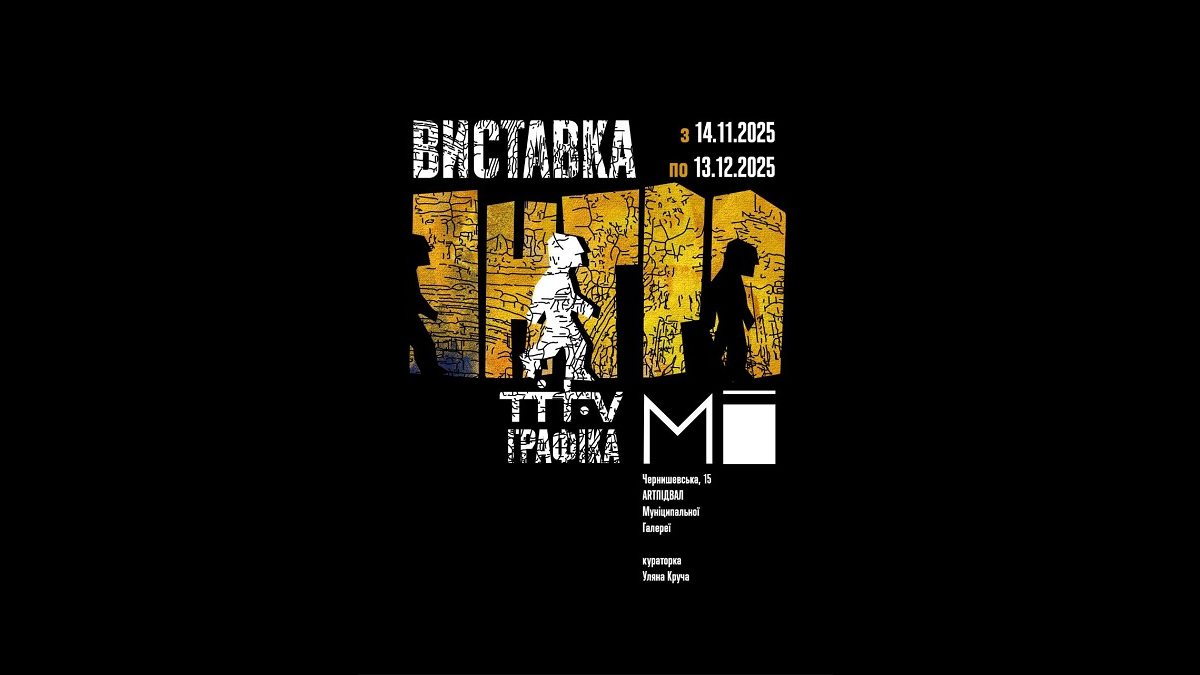


 Випуск № 12 (1083) від 29.01.2026
Випуск № 12 (1083) від 29.01.2026