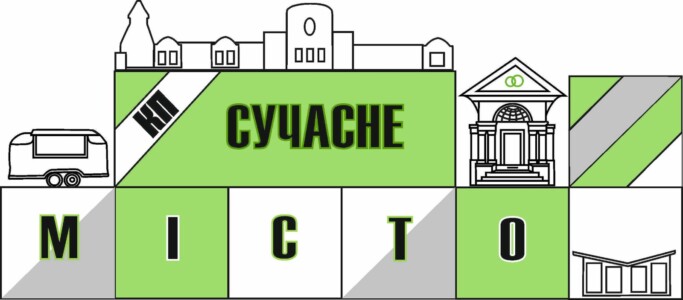Грустный клоун
Его называли «грустным клоуном», «клоу­ном с осенью в сердце», «клоуном-философом». Ведь вместо того, чтобы смешить до слез, Леонид Енгибаров заставлял зрителей думать и сопереживать. Он считал, что клоунада — не профессия, а мировоззрение и самые смешные ситуации в жизни, как правило, бывают одновременно и самыми грустными.
Выбор пути
Леонид Енгибаров родился 15 марта 1935 года в Москве. Отец Леонида по нацио­нальности армянин, работал шеф-поваром в ресторане «Метрополь». Мама Енгибарова была домохозяйкой, изредка подрабатывала портнихой. В Москве семья Енгибаровых жила в деревянном одноэтажном доме в Марьиной роще.
О своем военном детстве Енгибаров позже рассказывал: «Войну я провел в Москве, в Марьиной роще. Я пережил здесь все бомбежки, и первое, что я узнал в жизни, это были не детские игрушки, не хоккей. Это была война. Вой сирены, предупреждающий о налетах. Это наложило на меня особый отпечаток. И пока я живу, я не могу этого забыть».
К профессии артиста Енгибаров пришел не сразу. После войны записался в секцию бокса, окончил в 1952 году среднюю школу и поступил в институт рыбного хозяйства, но, проучившись в нем всего полгода, перевелся в институт физкультуры. На первенстве Москвы по боксу в сезоне 1952—1953 годов он одержал 9 побед и потерпел одно поражение, заняв в итоге 3‑е место в своей весовой категории. Однако, несмотря на успехи в спорте, Енгибаров чувствовал, что до сих пор не нашел себя. Подавая в 1955 году документы в Государственное училище цирковых искусств на отделение клоунады, он также не был уверен, что профессия клоуна — это его призвание. Но уже с первых месяцев учебы все его сомнения развеялись.
Начало
Его педагогом был Юрий Павлович Белов. По мнению тех, кто видел Енгибарова в те годы, во время учебы в училище четко определилась творческая индивидуальность Енгибарова как коверного мастера пантомимы. По воспоминаниям коллег, Енгибаров тщательнее всего изучал цирковую акробатику, мог выполнить любой сложный цирковой трюк.
Окончив училище в 1959 году, Леонид пришел домой с дипломом об окончании училища и показал его маме. Вот что он сам позже рассказывал в интервью: «Не знаю, насколько это покажется забавным, но, когда я рассказываю друзьям, они улыбаются. Я люблю свой район, в котором я родился и вырос. Это Марьина роща. Сейчас уже много новых домов, а когда оканчивал цирковое училище, Марьина роща сохраняла свой старый облик. И мы жили в деревянном доме недалеко от церкви. К счастью, эту церковь не снесли. Моя мама долго переживала, когда я поступал то в один институт, то в другой. И когда я наконец в 1959 году окончил цирковое училище и принес домой диплом, в котором было записано, что я артист, клоун и пантомимист, мама, как и все мамы, была рада и… заплакала. Помню, я убежал с друзьями на какой-то концерт, и мама осталась одна. Она хотела поделиться с кем-нибудь своей радостью и побежала к соседке. Родственников никого поблизости не было, а маме хотелось кому-нибудь сказать, что сын ее наконец-таки встал на ноги. Вот и пошла мама к своей подруге, соседке, у которой сын — мой ровесник, мы с ним учились в школе, он стал шофером. Прибежала мама к подруге и говорит: «Маша, смотри, смотри, Маша», — а глаза у мамы были полны слез: она показывала диплом, в котором было написано: «Клоун-мим». Маша посмотрела диплом и сказала: «Тонечка, ты не расстраивайся, не плачь, это ведь тоже профессия!»
Триумф
Дебют Енгибарова состоялся 25 июля 1959 года на манеже Новосибирского цирка, где его выступление ждал обидный провал. Многолетний партнер Енгибарова клоун Альберт Минасян рассказывал: «Дело было в том, что некоторые детали оказались «недотянутыми». Прежде Леонид не выступал на манеже, репетировал в камерных залах, на сцене. Он потерялся в огромном круглом амфитеатре, это было ударом почти смертельным! Нашлись те, кто предложил отправить начинающего клоуна в Москву с «волчьим билетом». Другие сказали: «Дайте парню шанс! Вы посмотрите, как он работает — в шесть утра на манеже, а уходит последним!..» Леонид не любил вспоминать новосибирский эпизод. Тогда он выдержал. Продолжил репетиции. Пригласил меня в свою репризу «Бокс», стали работать вместе. С труппой объехали многие цирки страны. Уже в 1960‑м публика стала встречать его аплодисментами. А потом — грянул абсолютный триумф».
В 1959 году Енгибаров переехал в Ереван и поступил в труппу армянского циркового коллектива. В отличие от большинства тогдашних клоунов, которые веселили зрителей с помощью стандартного набора трюков и хохм, Енгибаров пошел совершенно иным путем и одним из первых стал создавать на арене цирка поэтическую клоунаду. Его репризы не ставили своей основной целью выжать из зрителя как можно больше смеха, а заставляли думать и размышлять. Юрий Никулин вспоминал: «Когда я увидел его в первый раз на манеже, мне он не понравился. Я не понимал, почему вокруг имени Енгибарова такой бум. А спустя три года, вновь увидев его на манеже Московского цирка, я был восхищен. Он потрясающе владел паузой, создавая образ чуть-чуть грустного человека, и каждая его реприза не просто веселила, забавляла зрителя, нет, она еще несла и философский смысл. Енгибаров, не произнося ни слова, говорил со зрителями о любви и ненависти, об уважении к человеку, о трогательном сердце клоуна, об одиночестве и суете. И все это он делал четко, мягко, необычно».
Слава
В 1960 году Енгибаров отправился на гастроли и побывал со своими необычными пантомимами в Харькове, Тбилиси, Воронеже и Минске. А в апреле 1961 года армянская труппа давала представление в Москве. В столице о «печальном клоуне» многие были наслышаны, и выступление Енгибарова в цирке на Цветном бульваре прошло успешно. С тех пор Енгибаровым «заболела» и Москва.
В 1961 году Енгибарова ждали гастроли не только в Москве, но и в Одессе, и в Баку. Везде его ждал оглушительный успех. Вскоре Енгибаров отправился в первые заграничные гастроли в Польшу, где его снова ждал успех у зрителей.
Одна из его знаменитых реприз называлась «Одиночество». Клоун выходил на манеж, и хотел прилечь, чтобы отдохнуть, но его выгоняли. Он находил другое место, но его снова выгоняли. Он остался один, смотрел в зал и жестом просил зрителей: «Подойдите ко мне, помогите, мне плохо!» Но никто не шел. И тогда он покидал манеж медленной и странной походкой. Зрители аплодировали, но он уходил, не оборачиваясь. В 1960‑х годах подобные цирковые выступления казались почти крамолой. Показывать репризы так, чтобы слезы у зрителей наворачивались, было недопустимо. Но вскоре все изменилось, и в 1962 году во время гастролей в Ленинграде Енгибарову была вручена медаль за лучший номер года. Там же он познакомился в Марселем Марсо и Роланом Быковым, который стал его близким другом на всю жизнь.
Лучший клоун мира
С ростом популярности Енгибарова на него стали обращать внимание и представители других творческих профессий, в том числе и кинематографисты. В 1962 году Енгибарову предложили сыграть в кино самого себя. Режиссеры студии «Арменфильм» Г. Малян и Л. Исаакян сняли фильм о цирковом клоуне и назвали его «Путь на арену». Через год после выхода этой картины на экран к артисту пришла и широкая международная известность. На Международном конкурсе клоунов в Праге в 1964 году Енгибаров получил первую премию и был назван «Лучшим клоуном мира». Это был ошеломительный успех для 29‑летнего артиста, работы которого некоторое время назад мало кто воспринимал всерьез. Тогда же, в Праге, в чешских газетах были впервые опубликованы новеллы Енгибарова, который в них много писал о любви, как правило — о несчастной, и отчасти благодаря этому о его личной жизни было много слухов.
Молва приписывала Енгибарову то одну жену, то несколько. Даже в официальных биографиях писалось об этом. Директор Ереванского цирка Сос Петросян рассказывал: «Леонид не женился ни разу. У него была единственная неофициальная дочь от ленинградской актрисы Ады Шереметьевой, блиставшей на экране в начале и середине 60‑х. Где сейчас Шереметьева и дочь, не знаю — искал, но поиски результата не дали». Но если верить другим источникам информации — в 1965 году у Енгибарова в Праге родилась дочь Барбара, а ее мамой была чешская журналистка и художница Ярмила Галамкова.
Сам Енгибаров о личной жизни рассказывать не любил, и обычно отшучивался: «Теперь моя биография — репризы, пантомимы, которые я делаю, сценарии, которые пишу для кино. Семейное положение? Убежденный холостяк. К поклонницам отношусь настороженно. Любимый цвет — зеленый. Любимый художник — Ван Гог. Композитор? Григ и Чайковский».
Конец 1960‑х годов можно считать самым удачным периодом в творческой карьере Енгибарова. Он с успехом гастролировал как в СССР, так и в Румынии, Польше и Чехословакии. Помимо работы в цирке, Енгибаров выступал с «Вечерами пантомимы» на эстраде и писал прозу, которую отмечал Василий Шукшин и называл Енгибарова прекрасным писателем. Рассказы Леонида Енгибарова публиковались в журналах «Волга», «Москва», «Урал» и других изданиях. Позже Енгибаров начал сниматься в кино у таких мастеров, как Сергей Параджанов в фильме «Тени забытых предков» в 1964 году, у Ролана Быкова в фильме «Айболит‑66» и у Василия Шукшина в фильме «Печки-лавочки». О Шукшине Енгибаров рассказывал: «Я счастлив, что знаком с Василием Шукшиным. Мой современник, великолепный писатель, великолепный актер». Тогда же были сняты два фильма, рассказывающие о творчестве талантливого клоуна: «Знакомьтесь, Леонид Енгибаров» и «2-Леонид-2».
Театр
В 1971 году Енгибаров ушел из «Союзгосцирка», после того как его учителя, друга и партнера Юрия Белова не выпустили на зарубежные гастроли. О Белове Енгибаров рассказывал: «Я многим обязан Юрию Павловичу Белову. Этот человек сделал меня. Я ему во всем доверяю. О нем могу рассказывать часами». Вместе они поставили моноспектакль «Звездный дождь», показанный в Ереване и в Москве в Театре Эстрады. Енгибаров решил создать свой театр, и вместе с Беловым приступил к репетициям спектакля «Причуды клоуна». Работа над постановкой длилась пять месяцев, но в Министерстве культуры встретили начинание Енгибарова негативно. Когда он захотел назвать свой коллектив «Театром Енгибарова», ему запретили это делать. «Какой еще может быть театр? — заявили ему. — Назовите просто — ансамбль». А когда в газете «Советская культура» один из корреспондентов попытался написать восторженную рецензию на спектакль «Звездный дождь», его тут же одернули: «Эта тема сейчас нежелательна».
В 1971 году в Ереване вышла первая книга новелл Енгибарова под названием «Первый раунд». И в том же году Енгибаров снялся в фильме Тенгиза Абуладзе «Ожерелье для моей любимой» в роли клоу­на Сурико. Популярность Енгибарова у зрителей была огромной, и он по праву считался одним из лучших цирковых артистов Союза.
С октября 1971 по июнь 1972 года Енгибаров много гастролировал со своим театром по СССР. За 240 дней было им было сыграно 210 спектаклей.
***
В июле 1972 года Енгибаров приехал в Москву. Тот месяц был отмечен небывалой жарой и засухой. И в один из таких дней — 25 июля — Енгибарову стало плохо, и он попросил маму вызвать врача. Вскоре тот приехал, диагностировал отравление, выписал какое-то лекарство и покинул дом. Вскоре после его ухода артисту стало еще хуже. Матери вновь пришлось вызывать «Скорую». Пока врачи ехали, Леонид мучился от боли и во время одного из приступов внезапно попросил у матери: «Дай холодного шампанского, мне станет легче!» Видимо, он не знал, что шампанское сужает сосуды. Не знала об этом и его мама. Леонид выпил полбокала и вскоре умер от разрыва сердца. Ему было всего 37 лет.
Когда Леонида Енгибарова хоронили, в Москве начался проливной дождь. Казалось, само небо оплакивает потерю этого прекрасного артиста. По словам Ю. Никулина, все входили в зал Центрального дома работников искусств, где проходила гражданская панихида, с мокрыми лицами. А пришли тысячи…

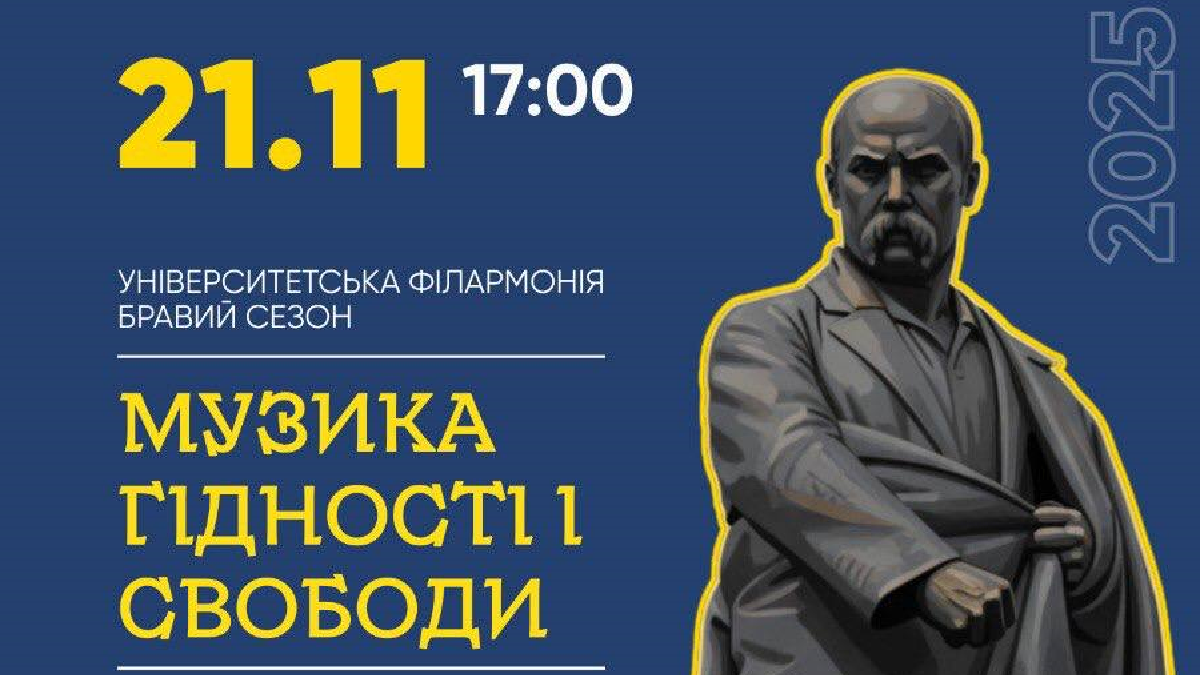
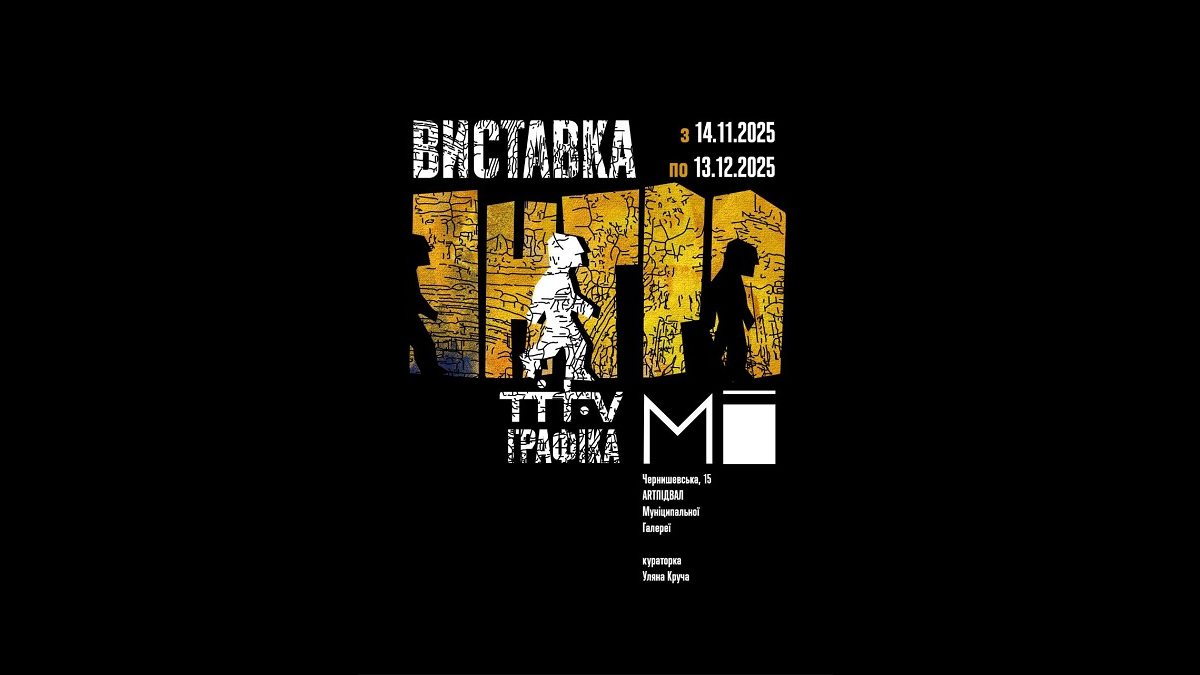


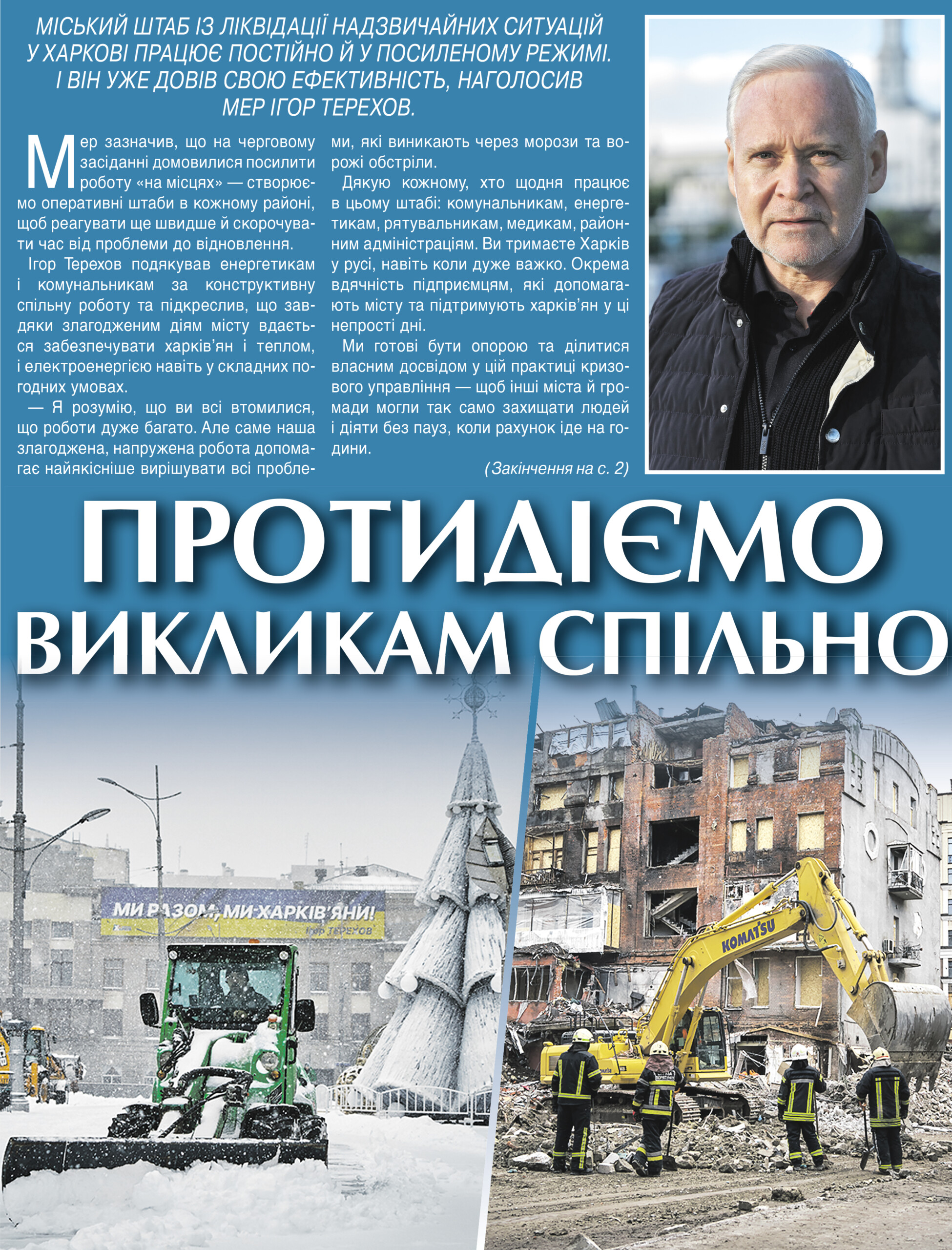 Випуск № 6 (1077) від 15.01.2026
Випуск № 6 (1077) від 15.01.2026