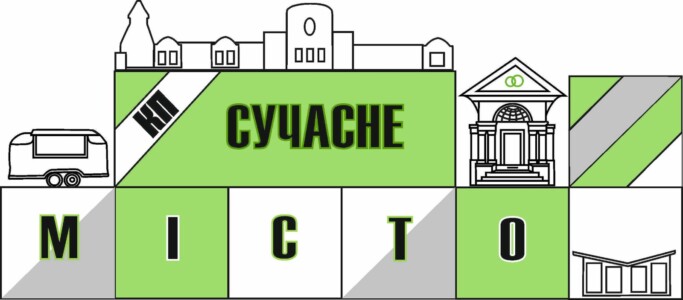Максим Голенко: Чем меньше на сцене табу — тем интереснее
—Максим, в каком театре Вы сейчас работаете?
—Я такая кошка, которая гуляет сама по себе. На протяжении всей жизни я катаюсь по разным театрам, ставлю то здесь, то там. Можно сказать, что открываю для себя разные города и разные театры. Мне это очень интересно. Не знаю, насколько это интересно тем, с кем я ставлю спектакли, а мне — очень.
—А давайте немного пофантазируем — представьте, что Вы попали в некое сообщество, где никогда не слышали о театре, не знают, что это. Как бы Вы объяснили этим людям, кто Вы и чем занимаетесь?
—Ну, я надеюсь, это Вы не про Харьков сейчас, потому что здесь с театром всё в порядке (улыбается. — Прим. ред.). Наверное, так: я пытаюсь делать что-то такое, после чего люди могли бы не только посмеяться или поплакать, но и задуматься. Театр для меня — это место, из которого ты выходишь, и что-то в тебе остаётся. Где ты можешь остановиться на пару часов, о чём-то задуматься. Может, раньше у тебя не было такой возможности — поднять внутри себя какую-то проблему, которая тебя волнует. А театр такую возможность даёт.
—Есть ли какие-то темы, которые для Вас табу в театре? И вообще, по Вашему мнению, должны ли быть в современном театре запретные темы?
 —У меня есть табу, которое не касается спектаклей, — это коррупция в театре. Грубо говоря, то, что театр часто становится местом, которое не имеет никакого отношения к искусству. И вот для меня именно это — табу. Это то, что должно быть под запретом. А на сцене может происходить всё что угодно. То есть, чем меньше на сцене табу — тем интереснее. Потому что театр — это же зрелище. Для того чтобы человек смотрел на сцену, там должно происходить что-то экстремальное. Поэтому для меня в театре нет запретных тем. И если бы Вы по-смотрели спектакли «Дикого театра» в Киеве, в котором я сейчас ставлю, то увидели, что у нас там форменные безобразия происходят (улыбается. — Прим. ред.).
—У меня есть табу, которое не касается спектаклей, — это коррупция в театре. Грубо говоря, то, что театр часто становится местом, которое не имеет никакого отношения к искусству. И вот для меня именно это — табу. Это то, что должно быть под запретом. А на сцене может происходить всё что угодно. То есть, чем меньше на сцене табу — тем интереснее. Потому что театр — это же зрелище. Для того чтобы человек смотрел на сцену, там должно происходить что-то экстремальное. Поэтому для меня в театре нет запретных тем. И если бы Вы по-смотрели спектакли «Дикого театра» в Киеве, в котором я сейчас ставлю, то увидели, что у нас там форменные безобразия происходят (улыбается. — Прим. ред.).—Хотелось бы заглянуть на Вашу режиссёрскую кухню, узнать, как рождаются спектакли. Когда Вы читаете пьесу, у Вас в голове возникает готовый собранный образ, и Вы уже даёте актёрам четкую задачу? Или творческий процесс протекает как-то иначе?
—Нет, я не отношусь к таким режиссёрам. Конечно, какой-то изначальный образ у меня складывается — я не имею права приступать к работе без него. Есть какая-то схема, какое-то желание, понимание — как обострить ситуацию, о которой идёт речь в пьесе. Но очень часто в работе я исхожу из индивидуальности актёров. Я очень ценю, когда какие-то вещи рождаются на площадке. Всегда радует, когда актёры что-то предлагают своё — я всегда стараюсь такие вещи брать. Ещё я не всегда знаю, каким будет финал. Часто финал появляется в самый последний день, когда мы уже четко видим, к чему спектакль идёт. И я понимаю риск происходящего, но иногда мы придумываем финал чуть ли не за полчаса до премьеры. Да, и такое было, когда нас озаряло: ага, вот это мы себе так надумали, сидя в кабинетах, а на самом деле финал должен быть вот таким.
—Вы очень смело обращаетесь с исходным материалом и часто меняете пьесы кардинально. Как драматурги к этому относятся? Не бывает сложностей с ними?
—Вы знаете, по-разному. Например, нежно мной любимая Наташа Ворожбит, после того, как мы поставили её пьесу «Вий», была белая как стена. И первое, что она сказала после спектакля: «Ну, актёры ни в чём не виноваты» (улыбается. — Прим. ред.). На самом деле она написала эту пьесу под заказ для заграницы и ввела туда такие вещи — важные и нужные для зарубежного театра. А у нас другие реалии. И в процессе постановки мы поняли, что многие сцены не работают. И мы их переделывали — что-то меняли, что-то убирали. И у Ворожбит был ужас, она нам говорила, что мы выкинули из пьесы самое важное… и вообще, что мы сделали с её «ребёнком» (улыбается. — Прим. ред.). Но потом, когда я впоследствии делал этот спектакль в Германии, я все эти сцены вернул — там они были необходимы.
—Получается, Виктора Шендеровича, который приедет в октябре на харьковскую премьеру спектакля, тоже ждут сюрпризы? Вы что-то меняли и в его пьесе?
—У Шендеровича пьеса писалась отчасти на Этуша, который ветеран войны, и которому уже 90 лет. У нас есть прекрасный, среднего возраста актёр Гиндин, которого превращать в старика нет никакого смысла. Мы омолодили нашего персонажа. Естественно, какие-то реалии нам пришлось изменить. И хочется верить, что у меня, и у Гиндина, и у Жуковцовой всё в порядке с чувством юмора. Мы все в своё время были связаны с юмористическими проектами — я, например, работал на «Файна Юкрайна» и большой кусок хлеба съел с этого материала. Понятно, что-то у нас рождается в процессе, мы что-то переделываем. Пьеса писалась пять лет назад, и некоторые репризы, которые были тогда злободневны, — они сейчас неактуальны. Поэтому мы переделываем, крестимся и надеемся, что Виктор Анатольевич Шендерович всё-таки нас поймёт (улыбается. — Прим. ред.). Когда спектакль делается на такого пожилого актёра, как Этуш, понятно, что это очень нежный, статичный спектакль. У нас он экспрессивный, боевой, динамичный. Конечно, изменения есть, но мы знаем Виктора Анатольевича как человека с чувством юмора и верим, что он этот спектакль воспримет.
—Как происходил выбор актёров? Почему именно Вячеслава Гиндина и Ольгу Жуковцову Вы пригласили в свой новый спектакль? Как в нём появилась группа SHKLO?
 —Про Гиндина я давно знал и хотел поработать с ним раньше, но как-то не складывалось. Олю Жуковцову я тоже давно знаю как прекрасную актрису, которая сейчас очень активно возвращается на телевидение. С группой SHKLO нас познакомил Михаил Бондаренко — продюсер этого проекта, когда мне стало понятно, что в этом спектакле должна звучать живая музыка. Я в последнее время пытаюсь использовать её в постановках как можно больше — это даёт живой драйв. И как-то вот так это всё сложилось, во многом благодаря именно Михаилу Бондаренко, который меня познакомил с замечательными людьми, и который является эпицентром того, что сейчас происходит.
—Про Гиндина я давно знал и хотел поработать с ним раньше, но как-то не складывалось. Олю Жуковцову я тоже давно знаю как прекрасную актрису, которая сейчас очень активно возвращается на телевидение. С группой SHKLO нас познакомил Михаил Бондаренко — продюсер этого проекта, когда мне стало понятно, что в этом спектакле должна звучать живая музыка. Я в последнее время пытаюсь использовать её в постановках как можно больше — это даёт живой драйв. И как-то вот так это всё сложилось, во многом благодаря именно Михаилу Бондаренко, который меня познакомил с замечательными людьми, и который является эпицентром того, что сейчас происходит.—Максим, пьеса «HOMO Sovetikus» касается Харькова. Это, можно сказать, такая «харьковская история». У Вас ведь тоже был период жизни, связанный с нашим городом?
—Да, было такое. Я работал в Николаевском театре актёром и потом решил стать режиссёром. Мне было тогда 22 года. И у меня не складывалось с Киевом и с не совсем, мягко говоря, адекватной системой обучения в Карпенко-Карого (Киевский национальный университет театра, кино и телевидения имени И. К. Карпенко-Карого. — Прим. ред.). Там вообще интересная система — туда труднее попасть, чем вылететь оттуда. То есть, если ты туда попал, тебя будут там держать, невзирая на то, есть ли у тебя призвание к профессии или нет. А что потом происходит с этими людьми — никого не интересует. Но попасть туда — это что-то невероятное. Причем людей туда отбирают далеко не всегда по каким-то творческим критериям, ну вы понимаете — знакомства, блат и прочие радости. Поэтому я подёргался, перебрал, какие есть варианты, и решил сделать выбор в пользу Котляревского (Харьковский национальный университет искусств имени И. П. Котляревского. — Прим. ред.). Я поступил на курс Александра Барсегяна, которого уже нет с нами, и где-то год там проучился. Там у меня были интересные сокурсники, Серёжа Бабкин тогда учился, например. Его, правда, хватило на полгода режиссёрства. А меня хватило на год. Я, скажем так, не совсем был доволен тем, что тогда происходило в учебном процессе. С тех пор мало что изменилось, но это другая история — долгая и печальная. Хотя я для себя тогда открыл Харьков и театр Афанасьева (Харьковский государственный академический театр кукол им. В. А. Афанасьева. — Прим. ред.). Поэтому я немножко Харьков знаю — это место моей молодости. И я с удовольствием сюда вернулся. Харьков, кстати, очень изменился, потому что в моей памяти это был очень такой совковый, жёсткий, серый город. Он меня немножко тогда напугал. Сейчас всё-таки произошли большие изменения к лучшему, и я гуляю по нему с удовольствием в те редкие часы, которые свободны от репетиций. Поэтому когда мы решили, что база репетиций будет здесь, в Харькове, я откликнулся с большим удовольствием.
—Может, неслучайно Виктор Шендерович написал эту пьесу именно о харьковских эмигрантах? Может, для него этот город тоже ассоциировался с воплощением прошлого?
—Вполне возможно. Харьков, по‑моему, и был таким — суровый индустриальный город. Хотя очень часто спектакль переделывают под тот город, в котором его ставят. В Одессе, например, речь идёт про одесситов. Постановка называется «Одесса у океана» — такая камерная история, для небольшой сцены. Когда я ставил по этой пьесе в Николаеве, у нас это был спектакль про заводской город Николаев. Но в этот раз мы ничего не меняли. Это спектакль о Харькове и харьковчанах.
По материалам сайта im-ho.com.ua.
Катрин Брайт
Фото: Виктор Высочин

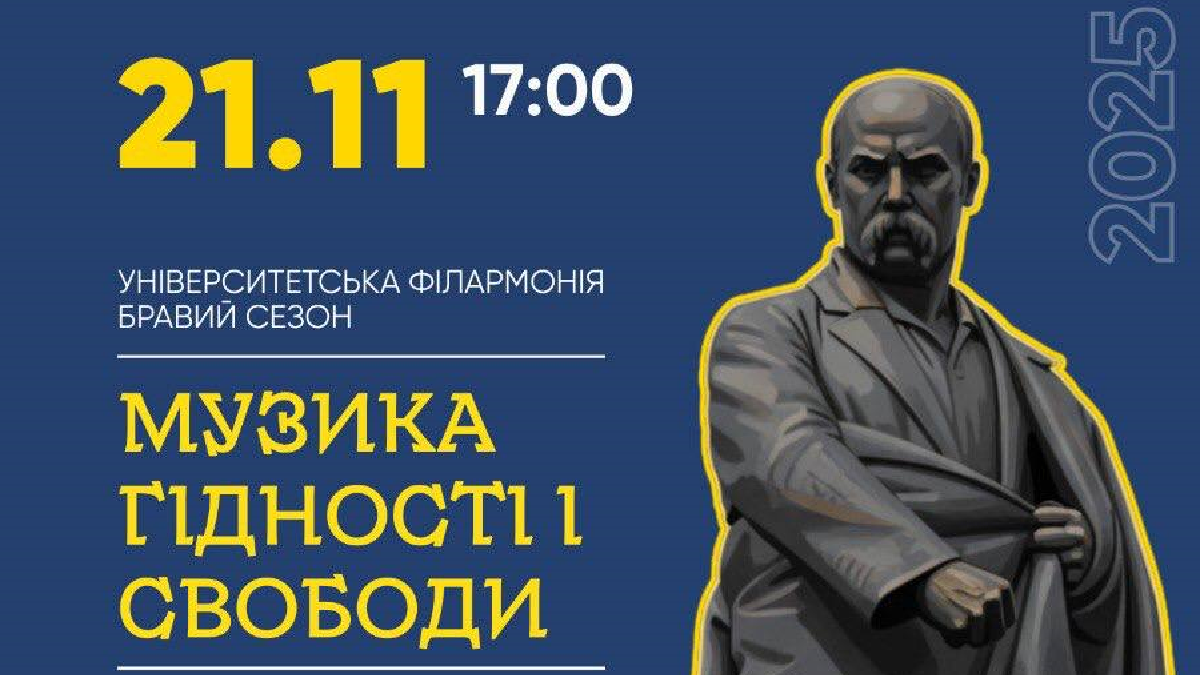
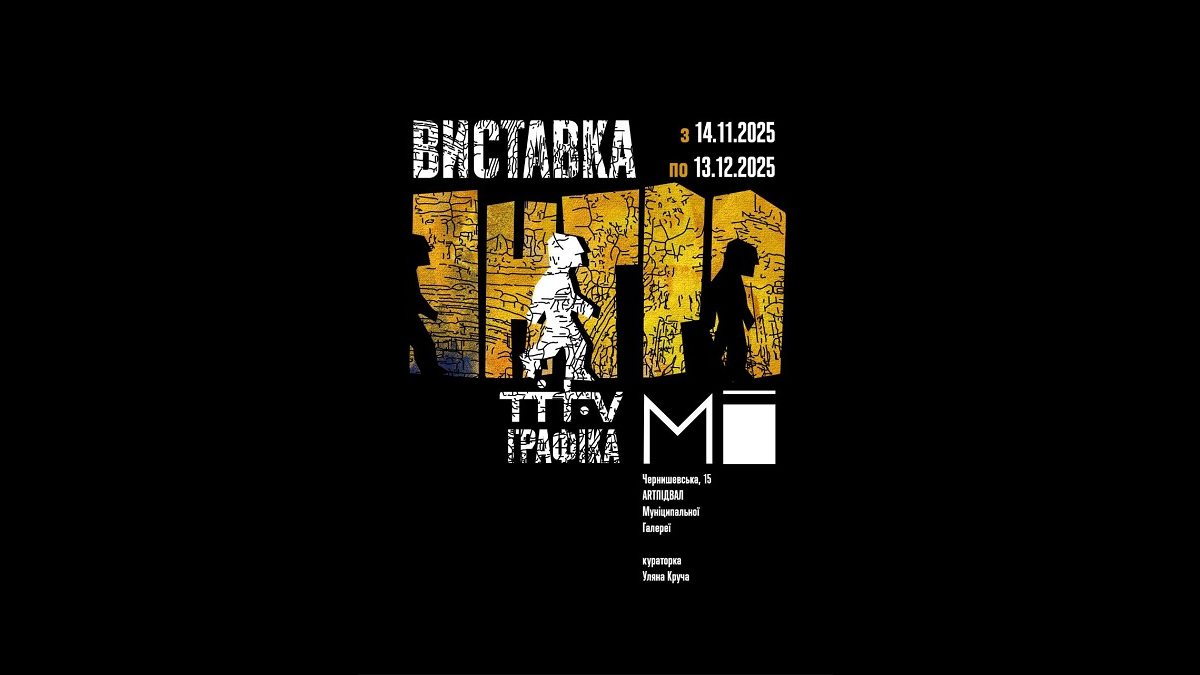


 Випуск № 17 (1088) від 10.02.2026
Випуск № 17 (1088) від 10.02.2026