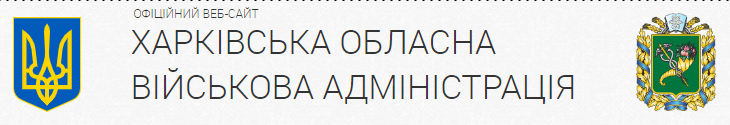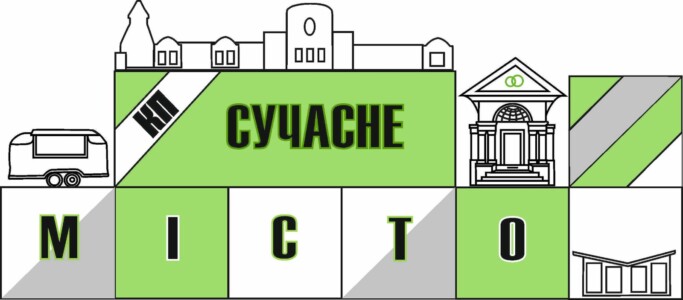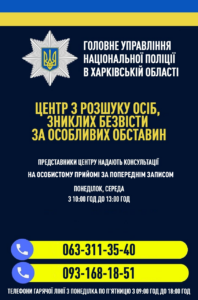Не пустой для сердца звук
Билетов и в тот раз не было. Совсем. Ни перед театром, ни в метро, ни на втором эскалаторе, ни на первом, ни у спекулянтов. Ну, не было и все. Толпа страждущих почти перегородила улицу, и машины медленно проплывали при помощи милиционеров. Останавливаться не разрешалось. Но вот один беленький москвич-фургончик все-таки причалил к тротуару. Из него вышел молодой парень в белом халате, открыл сзади дверцы, вытащил лоток с пирожными и двинулся в театр, рассекая толпу убедительными криками: «Осторожно! Буфет!»
Буфет пропускали. Когда он вернулся, я подскочил к нему и говорю:
—Послушай, парень, давай я тебе помогу. Бесплатно, просто так. А с последним лотком я там останусь. А? Помоги!
—Ну, давай. Только у тебя халата нет, ругаться будут.
—Ничего, разок стерпим.
Мы взяли по лотку и под требовательные крики «Берегись! Посторонись!» медленно поплыли в театр.
Буфетчица тут же спросила, почему без халата. Я, недолго думая, соврал, мол, стал доставать халат, а он выпал на дорогу и в лужу.
—Какая лужа, на улице 15 градусов мороза!
—А людей перед театром видели сколько? Натоптали, под ними и чуть растаяло.
—Завтра без халата не пущу!
Это будет завтра. А сегодня я уже в театре.
Успех буфетно-театральной акции подвиг меня на осуществление давно задуманного отчаянного шага. Однажды, точно зная, что Любимов в кабинете один, я постучал, вошел и, не давая опомниться ему, выпалил: — Здравствуйте, я — студент театрального училища имени Щукина, режиссерского отделения, вот мой студенческий. Прошу разрешить посещать ваши репетиции в театре…
Наши глаза встретились. Отсчет времени начался:… четыре, три, два, один…
—«Аллочка!» — позвал Любимов сотрудницу. — Выпиши, пожалуйста, молодому человеку пропуск.
В этот день я уже не приземлялся.
—Господи! Спасибо! Прости, что упомянул Твое имя. Но разве всуе?! Разве Таганка — это всуе! Я могу теперь заходить сюда целый день, сколько захочу. Выходить и входить, входить и выходить! На Таганку! Куда мечтает попасть вся театральная Москва, весь театральный мир! Я допущен в одно из лучших мест на Земле. Я приходил в театр неприлично рано, уходил неприлично поздно. Мне просто необходимо было быть внутри этого пространства, независимо от того, что там происходило, пусть даже в выходной.
Оно действовало на меня как лекарство на задыхающегося астматика. В театре репетировали «Гамлет» Шекспира. Обычно в зале на репетиции всегда были люди: разные иногородние гости, актеры… Но на той репетиции я оказался один. Я сидел в партере, в десятом ряду, возле прохода. Любимов то прохаживался по проходу в темном зале, то садился за режиссерский столик, включал настольную лампу и направлял ее на себя, чтобы актер видел его лицо, когда он делал замечания.
На сцене репетировал Высоцкий. Даже не репетировал, а еще только примеривался, прислушивался, притрагивался к роли Гамлета.
…Иногда он брался за что-то похожее на занавес, подвешенный посреди сцены, таскал его куда-то, отпускал. Все это происходило много раз, что-то там на сцене гудело, ездило…
Проходя мимо, Любимов неожиданно обратился ко мне:
— Как? Вам нравится?
В этот момент я понял состояние Авраама, к которому обратился Бог!
С лихорадочной быстротой в голове пронеслось: скажу «да», а это плохо, подумает — льстец, холуй. Скажу «нет», а это хорошо — значит, дурной вкус. Будь что будет, скажу как думаю.
— Нет, не нравится,—почти выкрикнул я сдавленным голосом под страхом смерти своей совести.
— Тсс!!! — приложил палец к губам Любимов. — Мне тоже не нравится.
Как хорошо! Как хорошо! Ему тоже не нравится, ему тоже…
Театр добавил в пьесе «Гамлет» действующее лицо, которого нет у Шекспира. Этим действующим лицом был Занавес, обычный театральный занавес. Но был он, конечно, необычный. Представьте себе огромную канву размером с зеркало сцены. По этой канве пучками шерсти вышиты разводы, узоры, которые должны были выражать раковые метастазы. А весь Занавес играл роль Рока, Судьбы, Времени. Занавес перемещался вдоль и поперек сцены, из глубины сцены на авансцену и назад, развернутый и скрученный, то выгораживая какое-то место действия, то играя роль Рока, Судьбы, Времени, пораженного смертельным недугом. И когда Занавес-Время двигался, например, справа налево, действующие лица падали на пол сцены, катились по ней, и Занавес сметал их со сцены жизни, как мусор. Этакий гигантский веник времени. Образ замечательный.
Зато в другой раз, когда настоящий занавес еще не был готов, на сцену в виде рабочего занавеса прицепили какой-то репетиционный вариант — светло-голубое выгоревшее, выцветшее, истерзанное временем полотнище, почти тряпка, пролежавшее в кладовке театра, наверное, со времен Шекспира. Высоцкий репетировал сцену на корабле. Артист стоял посредине этой тряпки, разрезанной пополам. И когда он обеими руками притянул половинки к себе, занавес надулся в сторону зала и под лучами прожекторов тряпка вдруг ожила и воображаемый корабль под полными парусами поплыл достовернее всякого натурального судна. Впечатление было поразительное. По лицам Высоцкого и Любимова было видно, как хорошо!
Искусству Таганки противопоказана иллюзия, а свойственна откровенная условность при стопроцентной вере артиста и «истине страстей». А истина страстей была не только подлинной, а еще и опрокинутой в наше время. Каждую секунду действия уже на память известный текст взрывался то внутри лежащим содержанием, то добавленным от театра, то ассоциациями, то аллюзиями.
Вот только что скандалом — взрывом прервался спектакль «Мышеловка» бродячей труппы актеров. Присутствующих разбросало кого куда. Взбешенный король покинул представление. Гамлет пулей вылетел из зала, чтобы обменяться впечатлениями с Горацио. Гамлет стремглав пересекает сцену по диагонали из левого дальнего угла в правый передний вдоль Занавеса-Судьбы и упирается спиной в стену, портал сцены.
Пусть раненый олень РЕВЕТ, А уцелевший СКАЧЕТ. Кто — спит, а у кого — ДОЗОР: Кому что рок назначит… На слове «дозор» Гамлет-Высоцкий костяшкой среднего пальца левой руки бьет по стене. И этот сленговый жест нашей страны не дает нам ошибиться, что это государство, Шекспир имел в виду Данию, наводненную соглядатаями, наушниками, стукачами. Датские стукачи, Розенкранц и Гильденстерн, появятся через секунду.
Или знаменитая сцена на кладбище. Нет нужды пересказывать философствования по поводу «стойкости» покойников, кладбищенского строительства и тому подобное.
Но вот могильщики начинают тут же, рядом с только что вырытой ямой (на сцене натуральная земля и люк в полу сцены), трапезничать. Они выпивают, закусывают, начинается задушевный разговор. Как бы это назвать?
Застолье у могилы, умогильное застолье… Первый могильщик с такой любовью, с такой нежностью, так по-домашнему рубит топором малосольный огурчик, что создается атмосфера уюта и тепла. Видимо, в этом государстве, в Дании, по сравнению с тем, что происходило на сцене до сих пор, кладбище — самое уютное, спокойное, пригодное для жилья место.
Таганка в Харькове
И вот Таганка в Харькове с краткими пробными гастролями. Как воспримет зритель, не запретит ли местное начальство, а такие случаи были…
Стали думать, как их поприветствовать. Ну, конечно, будут цветы, аплодисменты, крики и т.д. Но это все уже сто раз было, и пусть еще больше будет. А как быть не похожими ни на кого? Как сделать, чтобы они почувствовали себя как дома? Это было в середине июня. Спектакль-концерт окончен. Аплодисменты, цветы и все такое…
По проходу зала идут два наших студийца и несут, все время хочется сказать выварку, но все-таки, видимо, это была очень большая кастрюля. Их заметили, зал стал умолкать и затих. Они вышли на авансцену и поставили кастрюлю, жестом пригласив кого-нибудь, кто смелый, открыть ее. Подошел один, потом пригласил остальных, и подняли крышку.
Душистый запах пересыпанной сахаром клубники вырвался на свободу. Артисты наклонили кастрюлю к зрителям. Зал взорвался аплодисментами.
Мы их достали! Мы их пронзили! Не хуже чем они нас концертом! Но они старались два часа. А мы справились с ними за две минуты. Браво, СИНТ!
За что мы их так любили? За что? За талант? Конечно, за талант, но не только… Как сейчас по Харькову развозят в цистернах чистую, свежую артезианскую воду, так Таганка своими гастролями распространяла по городам Союза живой, чистый воздух свободы. Как замечательно точно назвал поэт Андрей Вознесенский Таганку того времени — Антитюрьма.
Возвращение Мастера
Настоящим несчастьем для нас было, когда наши доморощенные Клавдии и Полонии лишили Любимова гражданства. А когда он вернулся, я, несмотря на все страхи и опасения, решил немедленно послать ему приветственную телеграмму.
Я услышал о возвращении Любимова вечером, уже было поздно, да и почта закрыта. Пошлю завтра. Еле дождался утра, вскочил, оделся и, уже взяв ключи, вспомнил, что не умылся. Конечно, надо умыться. Умылся, посмотрел на себя в зеркало. Надо побриться! Нехорошо ходить заросшим. Побрился, снова умылся. Ну, вот так, уже вид ничего. Пошел. Что-то есть хочется. И на почте с утра, наверное, очередь. Надо поесть. Часом раньше, часом позже, какая разница? Конечно, надо поесть. Это пятиминутное дело.
Поел, схватил ключи. А, стоп, надо взять ручку. На почте может быть очередь за ручкой.
Кажется, все. Я почти побежал. По мере приближения к почте скорость моя стала уменьшаться и, не доходя метров двадцать до дверей, остановился, повернул направо и сделал не спеша вокруг почты круг.
Что это я, как дитя? Ну, пошлю я или не пошлю телеграмму. Что от этого изменится? Я даже не узнаю, получил ли он ее. А почта? Принять телеграмму примут, а потом не отправят. Увидят фамилию Любимов, адрес Таганки, проконсультируются где следует и все. Главное ведь не в том, послал или не послал, а в том, что хотел это сделать!
Мои круги вокруг почты продолжались… Я же работаю на военном заводе. А эти собаки, хозяева нашей жизни, ох и большие мастера по части уничтожения человека, пусть даже и не физического. Мне никак не удавалось открыть эту одну-единственную дверь на почту, после чего только и можно было продолжать заниматься театром и добиваться искренности от исполнителей «Лошади Пржевальского» в сцене покаяния.
Сойти с круговой орбиты не удавалось никак.
Вдруг откуда-то, из глубины меня неслышно всплыла песенка:
Настал черед, пришла пора, Идем, друзья, идем. За все, чем жили мы вчера. За все, что завтра ждем…
Теперь мы кружили вокруг почты вдвоем. Идем, друзья, идем… Идем, друзья, идем… Почему же мы не идем куда нам надо, друзья? Почему? Но я уже мертвой хваткой вцепился в руку, протянутую измучившей меня песни. Медитация продолжалась. Наши круги вокруг почты постепенно сужались. Наконец, что-то неведомое сняло меня с заколдованной орбиты, повернуло и заставило открыть дверь почты.
Я вошел и отправил телеграмму: «Юрий Петрович, дорогой! Приветствую Вас. Слава Богу, Вы дома!»
Человек родился.
Юрия Любимова не стало 40 дней назад — 5 октября 2014 года.





 Випуск № 153 (1068) від 23.12.2025
Випуск № 153 (1068) від 23.12.2025