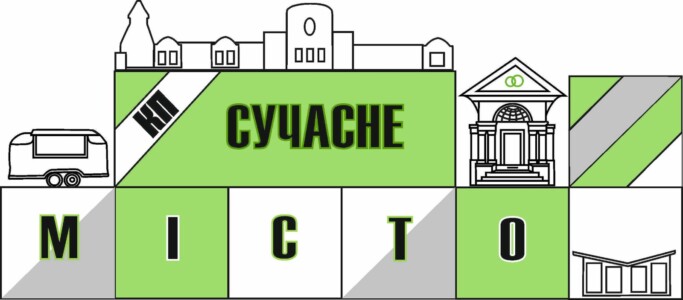От «Волков» через «Бригаду» к «Омару Хайяму»
Как-то в одном из телешоу, посвященном детям звездных родителей и тому, как эту звездную наследственность воспринимают их собственные дети, московская актриса и киевский режиссер Екатерина Степанкова (дочь Ады Роговцевой и Константина Степанкова) сказала: «В разное время мой сын относился к этому по-разному, в соответствии с возрастом. И одно время он очень гордился тем, что я работаю в одном театре с актером, снимавшемся в «Бригаде», — Фархадом Махмудовым». Кстати, не так давно артисту стукнуло 40, но поскольку эту дату в народе советуют не отмечать, мы тоже решили не торопиться с сообщением…
Во ВГИКе на артиста Фархада выучил Михаил Глузский, далее отметил Евгений Симонов, воспитал Роман Виктюк. После он ушел из театра своего воспитателя, но недавно его опять видели в спектакле «Мастер и Маргарита», так полюбившемся харьковчанам, — и неудивительно, лучшего доктора Сперанского, каким его видит режиссер, найти трудно. Да и то сказать, куда актер от своего Мастера, даже если он — совершенно по праву! — стал, как теперь говорят, звездой сериалов. Публике же, глядя на актера в новых многосерийных лентах «Шериф», «След Саламандры», «Остров Филиппа», «Омар Хайям», которые не сходят с экрана, советую не торопиться с выводами: до сих пор остается большим вопросом, где же актер лучше: на сцене, экране или эстраде.
Несколько серий нашумевшего сериала «Бригада» показывали в 2002‑м даже на Берлинском кинофестивале и неудивительно, что после все узнаваемые исполнители ролей до сих пор находятся в зоне внимания прессы и публики. И исполнителя персонажа по имени Фара — восточного мужчину из Узбекистана, на то время звезду Театра Романа Виктюка — участие только в трех сериях сделали известным на все СНГ.
—Как видно, производная от имени, — «цепляюсь» к актеру, — прилипла к фамилии Махмудов: в театре говорят Фарик, Фара и в кино то же…
—Так ведь Сидоров писал этот образ с меня, даже имя оставил то же самое: Фархад — Фара. Многие поэтому упрекали меня, будто в «Бригаде» я играл самого себя. Ну что, я продаю наркотики, что ли?
—Да?! Это значит, что одна из ролей известного сериала написана для определенного актера? А причина: личное знакомство, типаж и проф-подготовка, более ранняя известность?
—Если коротко, то на все вопросы могу ответить «да».
—А если подробно?
—Что касается личного знакомства, то с Лешей Сидоровым мы знакомы давно. А приблизительно в 95‑м году он пригласил меня сняться в своем первом короткометражном фильме. Сценарий мне понравился, и я абсолютно бесплатно, по дружбе, снялся у него в главной роли. Правда, потом эта картина пропала. А когда писали сценарий для «Бригады» и авторам понадобился исполнитель персонажа из Средней Азии, он меня не забыл. Ведь показанная история — о таджикской мафии, а я хоть и родился в Ташкенте, в Таджикистане провел очень много времени. Знаю, что все эти наркотики, о которых идет речь в фильме, появляются в треугольнике Узбекистан-Таджикистан-Киргизия и все люди, занимающиеся этим бизнесом, непонятной национальности, и говорят с совершенно разными акцентами. Вот мы и решили не подчеркивать национальность героя, тем более что он не узбек, а таджик в фильме, а я как раз говорю на многих языках того региона. Если кто из зрителей их тоже знает, то заметил — я иногда там нецензурно ругаюсь то на ферганском диалекте, то на памирском. Меня режиссер сам об этом попросил, потому что русскую матерщину, слава Богу, на экраны не пропускают, не пропускали тогда, а на иностранном языке это непонятно и поэтому вроде как можно. Так что прошу прощения у всех земляков за то, что я на их языках матерился, но так было нужно. Вот в картине, например, есть такой момент, когда мы идем из гостиницы «Космос», и я обращаюсь к партнеру по наркобизнесу: «Если будет все хорошо — говори со мной по-узбекски, если нет — по-таджикски…» А он спрашивает: «Ну а если убивать будут?» «Тогда, говорю, кричи по-русски». Вот — это то, что касается типажа. Ну и профподготовка, конечно, — я ведь ВГИК закончил, актерское отделение, мастерская Михаила Глузского.
—Я, простите, не могу скрыть свое недоверие: что?! Не может быть!
—А я не могу скрыть обиду: это почему же?
—Потому что киношный актер не может так здорово играть на сцене.
—Ну, у них просто немножко другая школа.
—Или полное отсутствие оной…
—Что делать, они — киношные, у них важен другой момент… Хотя в принципе Виктюк работает по-киношному, если честно. То есть, пластически у него решается много вещей — как в театре, но что касается внутренней игры, то она должна быть такой же тонкой, как и у киношников. И широкой иногда, но это уже в зависимости от личных способностей каждого актера…
—Итак, осталось осветить более раннюю известность…
—Да-да. Рассказываю. Я, вообще, киношный. С детства. В 14 лет я начал сниматься и к 15 годам уже был звездой…
— Ну и коллектив у вас в театре: один сам о себе говорит «звезда», второй — «звезда», третий вообще заявляет: «Я такой, просто самодостаточный…» Граждане, а не лихо ли вы сами о себе при таком-то Мастере рядом?
—Спокойно. Объясняю. Дело было так: на «Узбекфильме» я снялся в картине «Волки», в 86‑м она была первой в Союзе про наркомафию. Ее посмотрел весь Узбекистан. В Ташкенте меня знали все, то есть на меня показывали пальцем, у меня брали автографы в 14‑15 лет. Ну, с ума сойти, короче. Представляешь…

—Представляю…
—В 14 лет у меня уже брали автографы, и я этим так наелся!.. Да, кто-то из моих ровесников сейчас восторгается своими достижениями, собственной звездностью, вырабатывает по этому поводу комплексы. А мне уже это как-то по барабану, если честно. Звезда не звезда — я спокоен. И родители мои видели меня на киноэкране с детства, они тоже привыкли. Хоть сами и не имеют прямого отношения к искусству — мой папа инженер, а мама работала в Министерстве просвещения Узбекистана, и наше с братом воспитание было обычным. Вот сам не пойму, как я стал артистом (посмеивается). Внешность подвела, наверное…
А на съемочной площадке я оказался совершенно случайно. Так получилось, что в нашей школе делали кинопробы. Там же взяли меня за руку, привели на студию и сказали: «Будешь сниматься в кино». Я ответил: «Хорошо». И все, затянуло: меня окружали настоящие актеры, операторы, художники, окончившие ВГИК, которые и стали для меня авторитетами. Другой школы для меня не существовало, и я решил, что нужно ехать во ВГИК. К моменту поступления я успел сняться в пяти-шести картинах, полнометражных и короткометражных. Моими главными были роли в комедийной сказке «Проделки Майсары» и «Взгляде» Валеры Ахадова, снявшего «Руфь» с Анни Жирардо. Да, даже сейчас после «Бригады», несмотря на то, что прошло 10 лет, меня по-прежнему узнают на улице, приглядываются и девочки‑монтажницы так говорили: «Фара, знай, ты проснешься звездой!» Но, думаю, относительно меня это совсем не так — я мало сыграл, а ребята действительно проснулись знаменитыми. Кстати, еще о знакомствах: с Сережей Безруковым я познакомился в 93‑м, когда заканчивал ВГИК. Мы вместе участвовали в Питерском конкурсе чтеца имени Яхонтова. Он тогда взял первое место, а я — второе.
—Ого! Здорово! Но давайте вернемся к сериалам, или, может, у Фархада Махмудова какие-то личные телепредпочтения?
—Смешно, может быть, но сериалов я не люблю. Нет, я артистов не осуждаю, понимаю, что всем деньги нужны, сам такой, но в то же время считаю: ничего хорошего сериалы артисту не дают, а наоборот, делают их лица примелькавшимися. Многих замечательных актеров так затерли, что они уже, бедные, не знают, что и делать, как вывернуться наизнанку, чтобы измениться. Да, наверное, прикольно быть звездой сериала, но ведь не все они такого уровня, как «Бригада»… А по телевизору в основном я смотрю доброе старое кино и канал «Культура», потому что отношусь к этому профессионально — все-таки ВГИК заканчивал.
—Да уж, и из ВГИКа — прямо в театр!
—Да, действительно, я попал к Евгению Рубеновичу Симонову. «Мальчик мой, вся Москва будет у твоих ног. Тебя завалят цветами!» — всегда говорил он мне. Он гений был…
—Так и случилось?
—Нет, не успел. Вот как раз должен был «Сокунтулу» играть и принца Ду Шанту, но 15 августа 1994 года Симонов скончался, пусть земля ему будет пухом, и я понял: либо надо что-то искать, либо уезжать из Москвы обратно домой.
—Ну да, а уезжать не хотелось, в Москве-то уж понравилось и все такое…
—Да, но дело не в этом. Просто не хотелось, чтоб потом, продавая какую-нибудь самсу у себя на главрынке, я говорил: «А я бы мог!.. Ведь мог бы!..»
—Да, а на самом-то деле — либо сделал, либо не сделал, это касается чего угодно…
—Правильно. И я пошел по разным театрам и замутил сразу три проекта. Один из них делал наш Паша Урсул — очень талантливый режиссер и вообще интересный чувак. Это он поставил нашумевший спектакль «Чапаев-пустота». Он меня взял за руку и сказал: «Пойдем, я тебя с Виктюком познакомлю. Он сейчас запускает новый спектакль по Маркизу де Саду, и ему нужна массовка. Ты же двигаешься вроде неплохо, а там и танцы можно отработать, с хореографом позанимавшись, и денег заработать. Ну и заодно посмотришь, как Мастер работает». А я обалдел от Виктюка еще в 91‑м, когда присутствовал на его лекциях во ВГИКе. Согласился, в общем. Конечно, боязнь поначалу какая-то была: всякие слухи, все эти дела, мол, там тебя испортят — было такое, не без этого. И вот со всеми своими страхами я пришел к Роману Григорьевичу. Он посмотрел на меня и сказал: «Здравствуйте, русский!..»
—Ой, не могу, рассмешили! Здорово!
—Ха! Потом у нас была реплика еще лучше. Всех, играющих «Эдит Пиаф», он называл «скандинавы», потому что Нуца, Коля Добрынин и я — черные… В общем, поприветствовав «русского», он предложил мне почитать что-нибудь, и через два дня я уже репетировал в «Философии в будуаре», хотя проект этот реализовался только в 96‑м, и почти два года я шел за режиссером, жил как бомж, где придется и как придется. А в это время Виктюк пригласил Валентину Талызину, взял Женю Атарика, и втроем мы репетировали пьесу «Бабочка! Бабочка!», а после ездили с ней по стране. Если бы не друзья, я бы в тот период замерз на улице. Но одновременно мы выпустили два спектакля — «Бабочку» и «Философию», где одна из главных ролей — моя — стала для меня в прямом смысле слова переломной.
Роман Григорьевич меня так ломал!.. Он полностью сломал меня как киношного актера…
—К счастью, не полностью. Можно даже сказать, совсем не отучил вас играть в кино.
—Спасибо. …всему, чему я уже научился — ну это я так считал, что научился, — он меня полностью взял и разбил, разрезал и собрал заново. И вот то, что получилось, то, что сделал из меня Роман Григорьевич, — перед вами, ваш покорный слуга. Он вообще работает очень жестко. Он орет, ругает, унижает тебя словесно, кричит, что ты бездарен, и называет тебя самыми грязными словами. Он мог кинуть мне… ну не буду повторять, это не для всех ушек… Он у каждого актера находит больное место и бьет туда. А когда происходит слом и ты от бешенства начинаешь плохо соображать — о чудо! — что-то из тебя прет и ты просто играешь.
—Фархад, читатели мне не простят, если я не воспользуюсь случаем и не спрошу у восточного мужчины, какой на его взгляд, должна быть женщина? Кстати, не в том ли, что восточный мужчина якобы знает ответ на этот вопрос, кроется разгадка того, что Виктюк поручает артистам‑мужчинам женские роли?
—Да, да… Вот в спектакле «Мадам Баттерфляй» есть гениальная фраза: «Вы знаете, почему на Востоке только мужчины играют женщин? Потому что только мужчина знает, какой должна быть женщина». Ты знаешь, я играю мадам Сен-Анж в «Философии в будуаре» и свою героиню очень люблю. Это, конечно, смешно, потому что она порочна, но я ее люблю, какой бы она ни была, даже гадкой. Так вот, для того, чтобы сыграть женщину, надо просто ее любить. И я люблю, люблю как мужчина… А какой женщина должна быть — это каждый мужчина решает для себя сам, независимо от того, восточный он или нет.

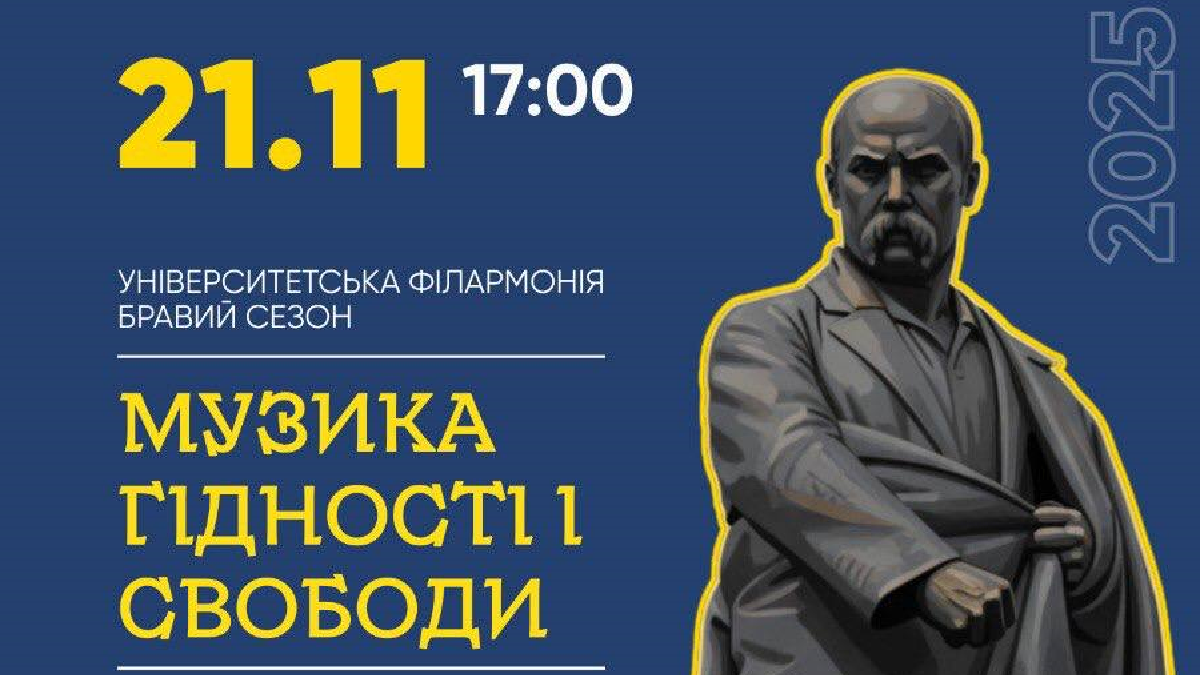
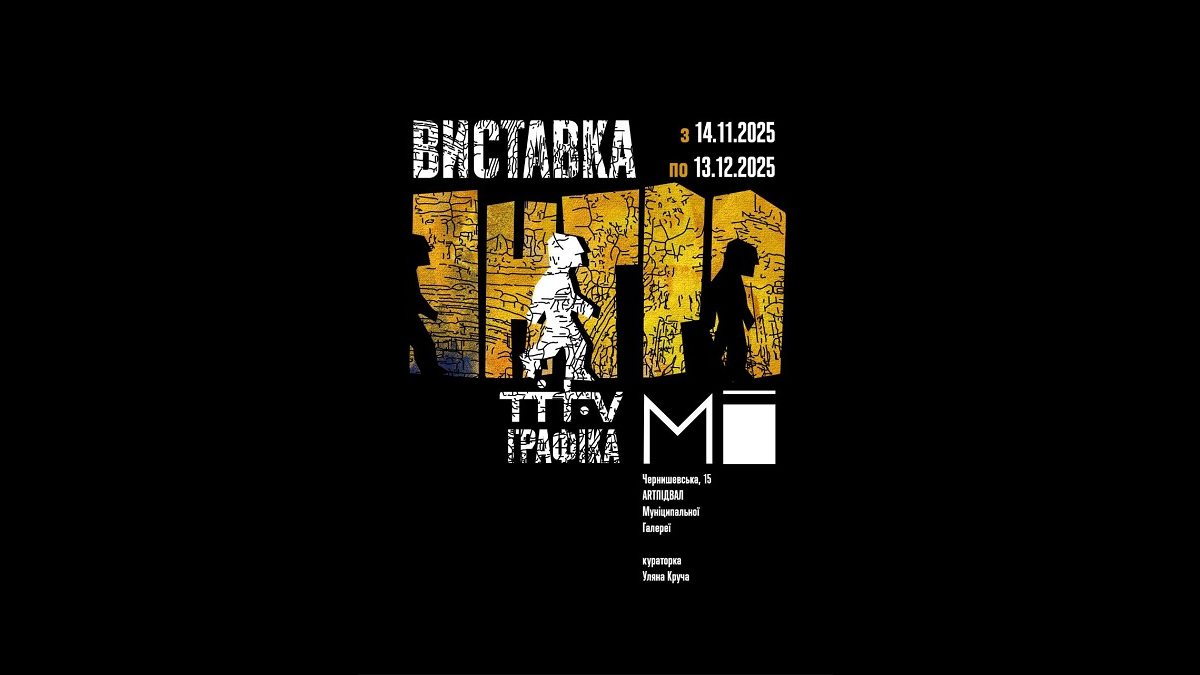


 Випуск № 5 (1076) від 13.01.2026
Випуск № 5 (1076) від 13.01.2026