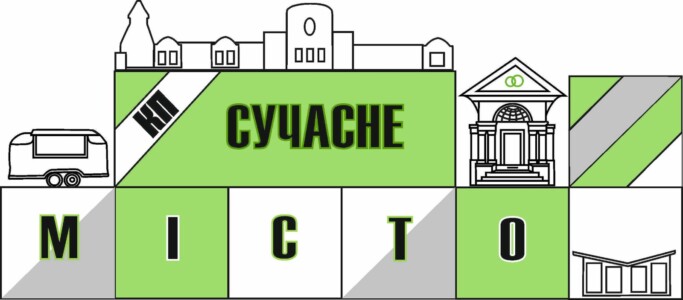Петр Тодоровский. Верность
90 лет было бы сейчас Петру Ефимовичу, но чуть больше 2 лет его уже нет с нами. Однако к этому времени он давно стал мастером, известным и любимым, Народным артистом РСФСР, лауреатом Государственной премии России, Заслуженным деятелем искусств УССР, лауреатом премии «Золотой овен», обладателем Специального приза Президента за выдающийся вклад в развитие российского кино — список профессиональных наград можно продолжать, — награжденным тремя орденами Отечественной войны I и II степени и медалями как участник войны. В 1954 году Тодоровский окончил операторский факультет ВГИКа. С 1955 по 1973 работал на Одесской киностудии, где снял фильмы «Весна на Заречной улице», «Моя дочь», «Два Федора», «Жажда» и поставил картины «Никогда» (в соавторстве), «Верность», «Городской романс», «Военно-полевой роман», а с 1974 года работал в Москве. Почти в два раза дольше Петр Ефимович прожил в Москве, чем в Одессе, и все-таки таким, каким помнят его друзья молодости, самые первые, которые вместе с ним делали не только первые шаги, но и первые ошибки, его не помнит и не знает никто. Один из них — кинорежиссер, преподаватель Школы кино им. Веры Холодной, директор Музея кино Одесской киностудии Вадим Костроменко.
—Познакомился я с Петей Тодоровским, — рассказывает Вадим Васильевич, — когда получил направление на работу на Одесскую киностудию. Приехал и поселился в славноизвестной студийной гостинице под названием «Куряж» (с ударением на втором слоге — С. М.). Кстати, это название и придумал Петя Тодоровский, вероятно, потому, что курили там, кажется, даже сами стены. И он, и я там жил, так мы подружились. Сблизило нас главным образом то, что мы оба учились во ВГИКе у одного мастера операторского дела, потрясающего преподавателя Бориса Израилевича Волчка, или Волчека, у нас говорили и так и так. Кстати, своих студентов Волчек учил: если ты хочешь стать хорошим оператором, по крайней мере, ты должен на 50 % знать режиссуру, иначе будешь просто хорошим фотографом. Что после сказалось и на судьбе Тодоровского, позже — и на моей. В общем, отношения наши стали дружескими, хотя между нами была разница в возрасте 10 лет. К этому времени Петя уже снял картину «Весна на Заречной улице» вместе с Радомиром Василевским, после чего Марлен Хуциев, автор «Весны…», начал снимать картину «Два Федора», а Петя Тодоровский был у него оператором. И тут не могу отказать себе в удовольствии рассказать одну из студийных творческих подробностей. Поскольку Марлен — человек очень дотошный, и всегда был таким, то снимает он очень медленно, а поскольку он снимает медленно, то ему никогда не хватает отпущенных сроков для того, чтобы вовремя закончить съемки. Их вынуждены были пролонгировать. И съемочный период ему тоже пролонгировали, а это, понятное дело, лишние деньги, всякие неприятности и т. д. Но так у него было всегда на всех картинах, и мы его даже называли «дедушка русской пролонгации», так вот этот термин и придумал Петя Тодоровский, человек очень остроумный, он никогда не проходил мимо того, чтобы над кем-нибудь незло пошутить.
—Вадим Васильевич, это же тогда Петр Ефимович решил «откорректировать» пролонгацию, в результате чего вы работали вместе с Андреем Тарковским?
—Да, вот снимают они «Два Федора», теряют время, идет все это медленно, уже понятно, что вовремя сдать картину не получится — а надо! — и тут из ВГИКа приезжает на практику и определяется к Марлену Хуциеву молодой студент, который потом станет всемирно известным режиссером, Андрей Тарковский. Тут-то Петя и предлагает Марлену: «Давай выделим какие-то кадры или даже какие-нибудь сценки, которые можно снять, Марлен, без тебя, чтобы работа шла параллельно, пусть их Андрей снимает, так будет быстрее». Марлен согласился. Тогда Петя еще посоветовал, мол, нужен и оператор второй, и взяли меня. Вот я с Тарковским с легкой руки Пети Тодоровского и работал. Но подставленное Петей дружеское плечо я ощущал не только в производственной, так сказать, обстановке, но и повседневной, бытовой, что еще дороже. У меня, по крайней мере, так. В подтверждение приведу пример. Когда мы уже жили в каких-то квартирах, пусть и не очень роскошных, у меня родились дети, сразу двое, и тут на студию приходит разнарядка: город может выделить одну двухкомнатную квартиру. Я стою в очереди на улучшение жилья, Тодоровский — на то, чтобы в первый раз его получить, он пока живет в «Куряже». Директор киностудии, им тогда была Лидия Всеволодовна Гладкая, приглашает нас с Тодоровским вдвоем к себе в кабинет и говорит: «Ребята! У меня есть одна квартира, а вас, нуждающихся, двое. Я вас оставлю у себя в кабинете и уйду на 15 минут, а вы уж тут постарайтесь договориться и решить сами — кому». Тодоровский сразу сказал: «Никуда уходить не надо, пусть квартиру получит Костроменко». И то, что он мог вполне заслуженно получить и как фронтовик, и как уже достаточно известный оператор, он уступил мне. Затем, когда он снимал картину «Жажда», и немного приболел, предложил режиссеру Жене Ташкову: «Пока я болею, возьми Вадима, он не подведет». Слава Богу, Петя болел недолго, но некоторые кадры я там все-таки снимал. После одного, помню, очень долго сидеть не мог. Там эпизод есть, сюжет, надеюсь, всем известен, как к Беляевке движется колонна немецких машин. Хотелось сделать так, чтобы зрелище было грозным, страшным, а для этого нужно снимать на ходу, и лучше снизу. Я взял хороший стальной лист, проделал в нем две дырки, прикрепил его к нашей операторской машине, которая будет ехать впереди колонны, и решил сидеть на этом листе. Таким образом, у меня получится нижняя точка съемки, и машины будут на меня грозно наезжать. Дали команду, двинулись. Через 2 минуты я понял, что сижу на сковородке, потому что этот самый металлический лист просто раскалился. Но не останавливать же съемку! В общем, я дотерпел до конца. Сняли все. Правда, потом несколько дней я вообще сидеть не мог, потому что то, на чем сидят, было сожжено, в волдырях. Но Петя это, видимо, оценил, и все, что я снял, его абсолютно устроило. Для меня это было главным.
—Маэстро, а как вы над «Верностью» вместе работали? Расскажите, пожалуйста.
—Начну вот с чего: все воевавшие, кого я знал, не очень любили рассказывать о войне, вернее, об ужасах войны. Ни мой отец, на долю которого выпала финская, а потом Великая Отечественная — от звонка до звонка, ни многие мои друзья, ребята-ВГИКовцы: мой земляк, фронтовик, студент сценарного факультета Женя Оноприенко, мой однокурсник Ваня Артюхов, которому пришлось после взятия Берлина еще воевать с японцами, мой коллега Гена Габай, фронтовой летчик-истребитель, а потом, после ВГИКа, режиссер Одесской киностудии. Им наверняка было что вспомнить страшное, но они этого не делали. Что это, почему? Возможно, инстинкт самосохранения, чтобы не переживать все снова. Это только никогда не голодавший человек с упрямством, достойным лучшего применения, может бесконечно повторять: голодомор, голодомор. Зато, если было на войне что смешное, веселое, рассказывали с удовольствием. Вот один из рассказов Пети: в первые мирные дни в маленьком немецком городке со скромным названием Бург, как известно, по-немецки просто город, гарнизоном была поставлена войсковая часть, в которой служил старший лейтенант Тодоровский. И был он, Петр Тодоровский, назначен комендантом этого города. А было ему тогда 20 лет. Нет, никакой смешной дурью он не занимался — некогда было. Потому что необходимо срочно восстанавливать хлебозавод, решать проблему карточек для населения, чинить водопровод, организовывать восстановление жилья. И вместе с этими, жизненно важными делами, комендант Тодоровский занялся проблемой — восстановить творческую деятельность городского симфонического оркестра! Видно, вирус творчества уже тогда засел в Пете. В свободное время он осваивал аккордеон. Гитара была подчинена ему давно.
—Не с него ли Марлен Хуциев после вылепил своего Ныркова (В. Гостюхин) в картине «Был месяц май»? Очень похоже!
—Вполне возможно. Так вот режиссерский дебют Тодоровского — фильм «Верность» родился в память о его фронтовом друге Юрии Никитине — сироте, детдомовце, светлом человеке, погибшем от снайперской пули. Юра, кстати, родом был откуда-то из-под Харькова. Эта картина стала своеобразным тихим реквиемом ему и выкошенному войной поколению современников Тодоровского. Еще — ею, наконец, он решил выполнить завет своего мастера Волчка: попробовать себя в режиссуре. Булат Окуджава написал сценарий…
—Но такие сценарии, извините, на дороге не валяются! Как он оказался именно у Петра Ефимовича?
—Вот тут я подробностей не знаю, но знаю, что Петя всегда был душой компаний и частенько попадал именно в такие, где собирались люди с гитарами. В одной из них он и познакомился с Булатом Окуджавой. На картину к себе взял двух молодых операторов. И тут оказалось, что они оканчивали наш ВГИК тогда, когда там отменили военную кафедру, и, значит, ребята, отучившись, чуть погодя были призваны. Что делать? Тодоровский говорит: «Вадим, выручай! Иди ко мне оператором», — хотя там уже немного было снято, и снято очень неплохо, ребята молодцы. Дальше мы с ним работали. Кстати, на картине у меня была такая ситуация. Дело в том, что сам Петр Ефимович в 1943–1944 годах учился в Саратовском военно-пехотном училище, там мы и снимали, зимой. По независящим от нас причинам даже не от плана, от погоды отставали. Сняли зиму, поехали в Одессу проявили, отсмотрели — брак пленки. Я как оператор в ужасе! Назад — переснимать зимнюю натуру. А зима в Саратове, как назло, кончилась, все расстаяло! Пришлось, грубо говоря, делать декорации. Я тогда так переживал… Наверное, если бы был женщиной, сел бы и заплакал.
—Вот это да! Вот это называется класс, профи! Ну ничего же не видно в кадре, ничего похожего. Не знаю человека, который не любил бы этот фильм о любви…
—В общем, могу сказать, что Петя, конечно, был человеком, отягощенным памятью войны. И все, что он снимал потом, за редким исключением, конечно, это война, которая в нем жила. Но эта война его не ожесточила, как бывало у других фронтовиков, ведь и в жизни у нас встречаются враги, которых ненавидят. Так вот хочу сказать, что если у Пети в мирной жизни оказывались враги, то он из них умел делать друзей. Да, таким талантом он обладал, чему и я у него учился. И поэтому, слава Богу, как-то прожил жизнь так, что у меня по-настоящему серьезных врагов и не было, хотя в искусстве это дело достаточно типичное. Для меня, конечно, невосполнимая утрата его уход, я все время возвращаюсь памятью к нему, к тому, каким он был: невероятно общительным человеком, с бесконечным юмором, постоянно сочиняющим какие-то смешные тексты, стихи, песни. Вот одна из них, адресованная новому начальству на студии, совершенно случайному в кино человеку:
Ни штанов своих широких не жалея,
Ни ботинок производства фирмы «Батя»,
Ходит-бродит мрачный по аллеям
Иордатий, Иордатий.
Тишина и в ДТС, и в павильонах,
Стали делать табуретки и кровати.
Отчего же ходит удрученный
Иордатий, Иордатий?
Я скажу тебе без злобы и без фальши:
Тут тебе ни дати и ни взяти.
Лучше бы ушел куда подальше
Иордатий, Иордатий.
В общем, нынче таких уже, как Петя Тодоровский, не делают, к сожалению. Он был не только творцом в кинематографе. Он был творцом в жизни. Он свою жизнь сотворил так, что можно сказать: он прожил ее счастливо. А сделать свою жизнь счастливой — это, к сожалению, не каждому дано. И делал он ее сам. Делал, во-первых, беззаветным трудом в кинематографе, во-вторых, умением общаться и контактировать со всеми людьми, с какими работал, и получал великолепную отдачу. При этом оставался верен себе. Ну и, в конце концов, он вырастил сына, который сегодня уже тоже достаточно заметный в кинематографе человек — Валера Тодоровский. Он родился у нас, в Одессе, а теперь в Москве не только режиссер, но и продюсер, и дай Бог, чтобы он хорошо продолжил дело своего отца.
—Вадим Васильевич, а как вы думаете, у Петра Ефимовича родился замысел ленты «Интердевочка»?
—Никак не думаю, это для меня полная загадка (Смеется. — С. М.). Не знаю, почему это произошло. На ваш вопрос у меня нет ответа.

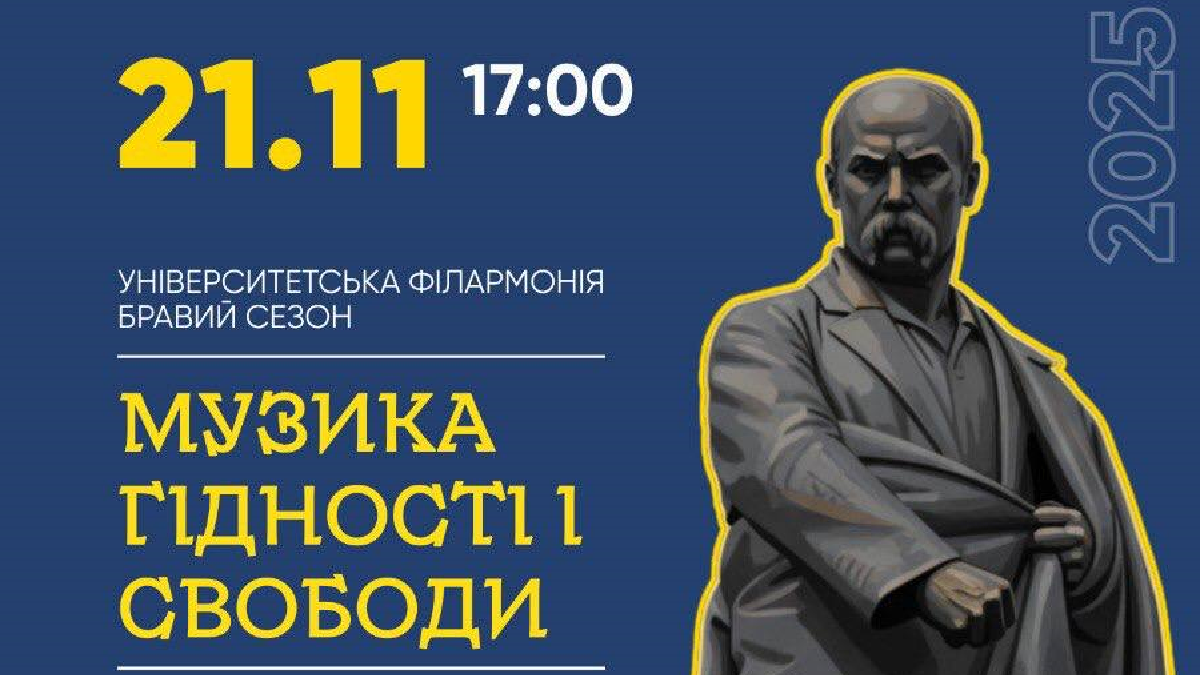
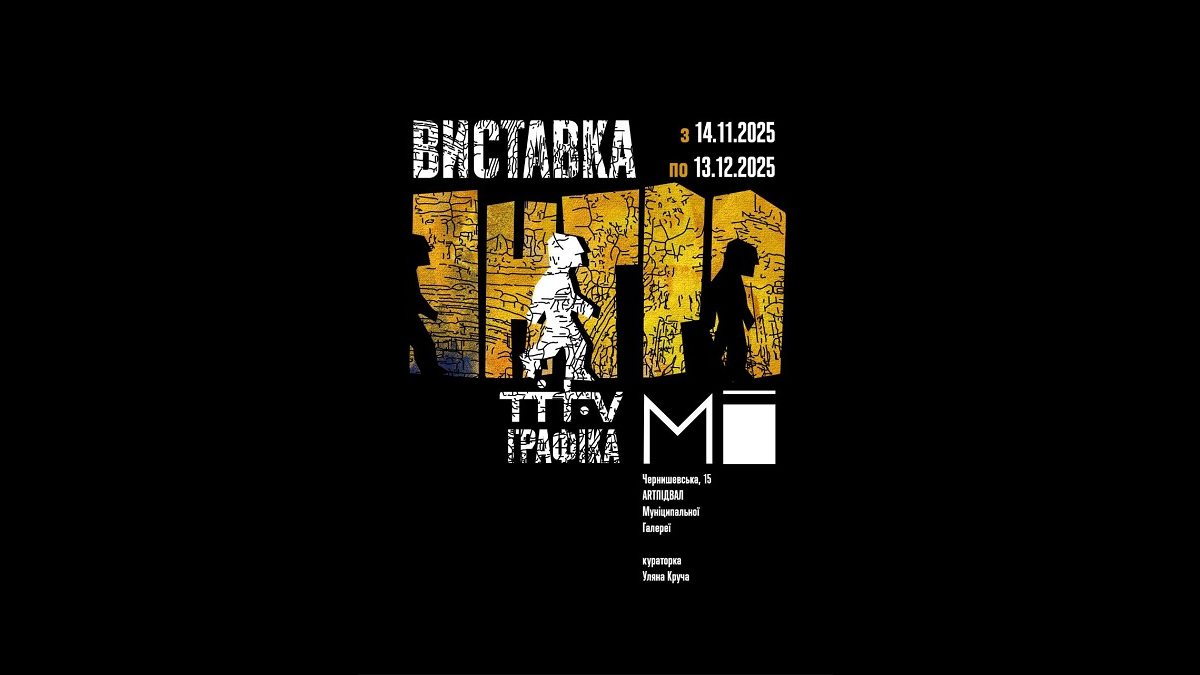


 Випуск № 10 (1081) від 24.01.2026
Випуск № 10 (1081) від 24.01.2026