Пятьдесят на фоне шедевров
ПЕРВАЯ СТАДИЯ УЧЕБЫ — ДО УНИЖЕНИЙ
—Да, в прошлом году исполнилось 50 лет, как я занимаюсь музейным делом, — рассказывает Валентина Васильевна. — Началось все с переезда из Крыма в Вологду. …Помню, шел дождь, я вошла в картинную галерею, увидела двух девушек, которые обменивались впечатлениями по поводу представленных живописных полотен, и, конечно, «встряла», потому что чувствовала себя знатоком искусства, — в школе водила экскурсии по выставке репродукций картин из Третьяковской галереи. Пока мы спорили, к нам подошел какой-то мужичок и возразил мне. Я ему со свойственной юности категоричностью: «Да вы ничего не понимаете!» А он, нисколько не смутившись: «Да, наверное, я ничего не понимаю, но я — директор Вологодской картинной галереи». Мне стало так стыдно, и стыдно до сих пор, как только вспоминаю эту ситуацию. Мы разговорились, и Семен Георгиевич, так звали директора, предложил мне в галерее работать. В течение года он меня муштровал как сидорову козу, иной раз до унижений: когда к нам приезжали какие-нибудь девицы-искусствоведицы из столицы, он меня подзывал и спрашивал: «Вам эта картина нравится?» А мне тогда все нравилось! Директор же резюмировал: «Вот, видите, ее еще учить и учить»… Но в итоге я ему бесконечно благодарна, потому что, если бы не Семен Георгиевич Ивенский, я вряд ли осмелилась бы поступать в Академию художеств в Ленинграде. И я поступила. Учиться в аспирантуре, хоть и предлагали, не осталась. Но учусь искусству до сих пор.
НАЧАЛЬНАЯ СТАДИЯ РАБОТЫ — ПЕРПЕНДИКУЛЯРНА ВИДЕНИЮ
—В Харьков я приехала в 1970 году, выйдя замуж за бывшего одноклассника. Когда переступала порог художественного музея, очень волновалась. Я тогда не верила в то, что мне посчастливится здесь работать. Но посчастливилось! Сдала экскурсию по музею, меня приняли на работу. Правда, уже через месяц музейная деятельность стала вызывать у меня недоумение: в тот год отмечали 100-летие со дня рождения Ленина, в связи с этим картины Айвазовского, Семирадского, Васильковского и других выдающихся мастеров сняли и развесили выставку, посвященную Ленину. Для меня это было большим ударом, поскольку в Вологде Семен Георгиевич избегал идеологических акцентов, настаивал, чтобы мы обращали внимание не столько на то, что изображено, и не сюжет пересказывали, а говорили о художественных особенностях картины. В Харькове мы тогда делали по 120 выставок в год — это только за пределами музея. При этом в сельские клубы привозили выставки живописи профессиональных харьковских художников, а к ним в нагрузку еще такие, как «Комсомол в бою и труде», «Труд в произведениях изобразительного искусства» и т. д. Все это было как бы перпендикулярно тому, чему я училась в Ленинграде и чему учили меня в Вологде.
ГЛАВНАЯ ЗАДАЧА
—К концу 70‑х я поняла, что нужно как-то из этого вылезать. А вылезать было трудно, потому что существовало такое цензурное препятствие, как Обллит. Каждую выставку, афишу и т. д. нужно было согласовать в Обллите, чтобы оставаться «выдержанным идеологически». В конце концов я нашла отдушину — организовала лекторий для семьи: в музей вместе с детьми приходили мамы-папы, бабушки-дедушки и участвовали в разговоре не о теме произведения, а о том, как оно исполнено. Это было интерактивное общение с аудиторией о приемах живописи, способах построения композиции, о колорите на приеме одной или двух картин, кроме этого — обсуждение домашних заданий, которые обязательно (!) выполнялись всей семьей. Какое-то время я помнила почти всех своих слушателей в лицо, после их накопилось столько, что помнить всех стало невозможно. Зато сейчас, по прошествии 30 лет после окончания работы нашего лектория, иной раз молодой человек или женщина с детьми подходит и говорит: «Здравствуйте! Мы к вам на семейные лектории ходили», — а я всматриваюсь в их взрослые лица и уже не могу вспомнить. Никто из тех слушателей не стал художником, но в них, надеюсь, осталось что-то хорошее и доброе. Я считаю, главная задача в работе музейного экскурсовода, лектора — помочь человеку испытать радость открытия особого — живописного — способа выражения.
ИСКУССТВО — ЭТО ВСЕЛЕННАЯ
—Точно так, как человек учит буквы, потом складывает их в слоги и слова, так же нужно учиться видеть живопись, чувствовать ее. Это одна из самых трудных задач и, должна сказать, что далеко не каждый экскурсовод в состоянии с этим справиться. Я, например, очень не любила обзорные экскурсии по Эрмитажу, потому что все бегом-бегом, общие фразы, и все. Вглядеться, вжиться в живопись не успеваешь — спешишь дальше… А ведь это тоже искусство — видеть картину; чувствовать своеобразие творческой личности художника требует внимания, терпения и открытости души зрителя. Изобразительное искусство по неисчерпаемости открытий — это Вселенная. Кажется, видишь планету и знаешь ее, а приближаешься к ней и оказывается, ты ничего не знаешь — так много на ней удивительных подробностей, нюансов… Я очень любила дежурить по музею, особенно мне нравилось совершать обходы перед сдачей экспозиции под охрану, когда идешь, в залах уже пусто и как-то по-иному начинаешь воспринимать живопись. В жизни моей было немало таких сокровенно-счастливых мгновений, когда давным-давно знакомые полотна вдруг открывались какой-то особой красотой, изумительной тонкостью и сложностью живописного строя, рождая в душе волнение, восторг, ликование! Как бы хотелось, чтобы это испытали многие!..
ВИТАМИН РАДОСТИ
—В постижении таинства искусства ничто — ни книга, ни альбом с шикарными репродукциями, ни Интернет, ни телевизор — не могут заменить живое общение с подлинной картиной. Однако в век высоких технологий, мелькающих кадров телевизионных рекламных роликов у детей уже в раннем возрасте появляется клиповое восприятие и поверхностное мышление. А ведь любой ребенок должен получить в детстве «витамин радости», в том числе — общение с прекрасным: классической музыкой, хорошей поэзией, подлинной живописью. Это тот позитив, который дает человеку радостную духовную силу на всю жизнь.
МУЗЕЙ — ХРАМ ИСКУССТВ
—Сегодня музей ведет активную выставочную работу. Мы периодически экспонируем выставки из своих очень богатых фондов и из собраний других музеев, организовываем экспозиции уже ушедших и современных мастеров в таких программах, как «Незабытые имена земляков», «Творчество харьковчан в контексте европейской культуры» и др. Очень активно работаем с детьми в многовекторной программе «Музей — детям», в том числе «Мастера будущего»; фестивали «Харьков — город добрых надежд», «Я люблю наш музей»; конкурсы детского рисунка; мастер-классы; интерактивные занятия. В этих мероприятиях принимают участие тысячи юных харьковчан. Уже не одно десятилетие реализуется программа «Музей — храм искусства» с музыкальными вечерами, встречами с художниками и поэтами. Работают программы для детей с особыми потребностями, к нам регулярно приходят дети с синдромом Дауна, они очень чутко реагируют на живопись. А в минувшем году со специалистами мы разработали программу для слабовидящих и незрячих детей.
ЭКСКУРСИИ — ЭТО АЙСБЕРГ
—Чтобы выйти к людям с новой выставкой, лекцией, экскурсией, сотрудник музея должен быть профессионально подготовленным: помимо способностей рассказчика, он обязан владеть обширной базой знаний. Я сравниваю полноценную экскурсию по музею с айсбергом — только восьмую часть концентрированной информации экскурсовод доносит до зрителя, а остальной массив знаний ему необходим, чтобы в зависимости от подготовленности и восприятия посетителей (и это экскурсовод должен почувствовать!), он мог легко импровизировать и завладевать вниманием самой группы. Эти знания и умения обретаются как беспрерывным обучением, так и научной работой — исследованием бытования экспонатов, уточнением их авторства, биографий художников. Наши сотрудники составляют каталоги, пишут статьи, участвуют в научных конференциях и т. д. К сожалению, издание научных исследований крайне ограничено финансовыми возможностями. Так, четвертый год «отдыхает» рукопись альбома «Репин и Харьковщина», подготовленный совместно с чугуевскими коллегами. А ведь Репин — наша гордость, художник, признанный в Европе. Помню, как в Хельсинки, где мы экспонировали его произведения, огромные толпы людей стояли в очереди, чтобы попасть на выставку. Нам бы сподобиться ценить искусство так, как финны!
О САМОМ ГЛАВНОМ ЗРИТЕЛИ НЕ ВЕДАЮТ
—Возможно, вы удивитесь, но самая главная часть музейной работы осуществляется не на глазах у посетителей. Это — сохранение музейной коллекции, являющейся частью государственного Музейного фонда Украины. Причем сие не только и не просто ее охрана физическими и техническими средствами, это — целая наука. Каждый экспонат фиксируется в многочисленных документах вечного хранения, начиная от актов приема, протоколов, книг учета, до унифицированных паспортов, включающих 47 позиций и т. д. Данная работа ответственная, строго регламентированная, требующая не только особой внимательности, но и высокой квалификации. Сейчас мы частенько сталкиваемся в довоенных инвентарных книгах со странным описанием экспонатов. Например: «Изображена женщина, лежащая в постели, около нее группа мужчин, один из них держит ребенка». Попробуйте угадать, что это за изображение?! Оказывается, икона «Успение Богородицы». И не спешите иронизировать, возможно, так пытались завуалировать сакральную основу произведения, дабы спасти его в период воинствующей антирелигиозной пропаганды.
Наша коллекция формировалась более двух столетий. Это отдельная захватывающая тема, достойная большого романа, исполненного реальных событий. Исследование драматической истории формирования и бытования коллекции заставляет с особым трепетом относиться к драгоценному наследию, собранному и хранимому несколькими поколениями предшественников. Картины, как младенцы, боятся сквозняков, сырости, резкой смены температуры. Живопись не любит темноты, а графика — яркого света и т. д. Не говоря уже о том, что есть картины, в которых болезнь заложена еще во время создания, поскольку художник (как Репин в «Запорожцах») неоднократно их дописывал. Переписывал детали в течение нескольких лет по уже высохшим красочным слоям, что приводит к отрыву мельчайших фрагментов живописи от холста. Такие экспонаты требуют постоянного наблюдения реставраторов. Я же лишь слегка коснулась некоторых аспектов работы в музее, которая разнообразна, ответственна, сложна, но бесконечно интересна. Полстолетия музейной жизни — это, оказывается, очень мало, чтобы постоянно обновляемый интерес удовлетворить. Наверное, нужно еще столько же. Да и того, пожалуй, будет маловато…




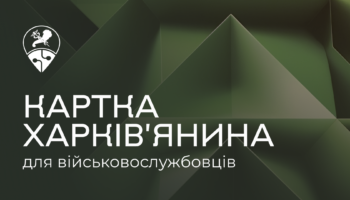
 Випуск № 94 (1009) від 07.08.2025
Випуск № 94 (1009) від 07.08.2025






