Расскажите, птицы
—Виталий Евгеньевич, — обращаюсь к директору Квартиры‑музея семьи Гризодубовых Виталию Власко. — В музее полупустые залы, а вы с музейными рассказами, экспонатами и даже тайнами — нарасхват. Это что, стиль работы, новый подход к ней — у нас в стране сейчас во всем сплошные новшества — или, наоборот, недостаток хорошего, настоящего, по чему творческий человек — опять же в эпоху перемен — всегда ощущает голод?
—Ой, давайте не будем конкретизировать…
—Давайте. Но тогда обобщайте, пожалуйста.
—С 2006 года мы сотрудничаем с Музеем Шульженко, так сказать, в музыкальном ключе. А началось все достаточно неожиданно, мне позвонила директор музея Елена Анатольевна и спросила: «Вы не могли бы подготовить что-нибудь музыкальное о Валентине Гризодубовой?» Сейчас уже не помню дословно, но помню, что никакой видимой, как говорят, привязки не было, просто «что-то музыкальное». Я сказал: «Хорошо, вот соберусь и…» А подборка-то у меня была и раньше, просто я не знал, куда ее применить. Известно ведь, что Валентина Степановна была неплохой пианисткой, и здесь, в Харькове, в доме всегда был достойный рояль, а на нем не цацки какие-нибудь, а метроном, то есть музыке она уделяла серьезное внимание в своей жизни. Так я сделал достаточно большую программу, называлась она «Музыка в жизни Валентины». Правда, сначала она называлась несколько по-другому — «Большая жизнь», с показом документального фильма, а после — песни об авиации, сведения об авторах, исполнителях и т. д. Но такая музыкальная встреча-экскурсия растягивалась на час сорок. После этого у меня была задумка встречи-экскурсии на тему «Песни о Родине», разумеется, с упоминанием имен летчиков, авиации, космонавтики и даже каких-то отдельных слов, понятий из этой области, как, например, «А ты улетающий в даль самолет в сердце своем сбереги. Под крылом самолета о чем-то поет зеленое море тайги». Но что-то, помнится, тогда помешало. А потом из этой задумки у меня получилась программа «Забытые песни», она была рассчитана тоже на час сорок — также об авторах, исполнителях, всего там было 10 песен. Эту программу я презентовал в Музее Шульженко, а потом ее же в течение полутора лет более десятка раз провел в разных библиотеках, школах, у себя в музее. Встречалась она зрителями-слушателями…
—На «ура!».
—С гордостью могу сказать, да. Очень-очень доброжелательно.
—А последователи в этом необычном творческом деле у вас не появились?
—Вы — в десятку, как говорится. В библиотеке № 30 Октябрьского района им. Франко, где я часто провожу лекции на самые разные темы, три музыкальные программы уже сделали дополнительно, сами, без меня. Ну, а по ходу дела у меня родилась идея сделать лекцию-концерт под названием «Песни о птицах», мол, птицы — создания летающие, значит, ассоциативно с авиацией связаны. Здесь я решил уже не рассказывать об авторах и исполнителях, то есть, конечно, назвать их, но сделать это в виде конкурса: кто угадает птицу, упоминаемую в песне. Получилось тоже неплохо, поскольку воспринималось так же хорошо и в библиотеке Франко, где я дебютировал, и в Музее Шульженко, где после выступил по их просьбе. Хотя посетителей было немного, слушали программу с большим удовольствием и даже подпевали. Скажу более, поскольку это был конкурс, был также и приз победителю. В первый раз я это сделал в «Забытых песнях» — подарил брошюру с текстами песен и текстом лекции библиотекам и музею. Такая же брошюра ожидала и победителя лекции-конкурса «Песни о птицах». Правда, в этот раз она была больше похожа на буклет, поскольку объемом поменьше. Был даже такой случай: ко мне после очередной музыкальной встречи подошла женщина и попросила: «Вы могли бы эту книжечку мне продать или сказать, где ее можно купить?» Однако я вынужден был ответить: «Купить негде, потому что это мое личное ноу‑хау, я эти брошюры делаю сам всего по нескольку штук к выступлению. Делать же много — выливается в копеечку. Вот в электронном виде — всегда пожалуйста!»
—Маэстро! Но ведь это все — советское: песни, стихи, авторы и исполнители. А в государстве, на территории коего находятся и упомянутые музеи, все советское запрещено… Вот птицы, правда, живут по своим веками установившимся биолого-географическим законам и условным рефлексам, у них по-прежнему все по принципу: где хочу, там и лечу…
—Да, советские. Но я стараюсь держать паритет. И потом… беру пример с птиц, с птичьей жизни: сначала рассказываю о том, каким образом происходила в истории биологии систематизация животных и кто такие птицы. Зачем? Затем, что в текстах о самих птицах употребляю эту терминологию. Иначе люди могут не понять, что к чему.
—Хитро. Даже не просто хитро, а научно! Сколько интересного, а, возможно, и нового узнают ваши экскурсанты.
—Спасибо. Но подобранные мною 20 песен составляют не только советские, есть и сравнительно новые. В частности, песня «Розовый фламинго», например, написана Аленой Свиридовой в постсоветское время; «Кукушка» в исполнении Пугачевой.
—А с какой песни вы начинаете свою лекцию-концерт?
—С нашей довольно старой детской песни «У дороги чибис», ее авторы Иорданов и Пришелец, исполнял большой детский хор Центрального телевидения и Всесоюзного радио под управлением Попова. Но, вы знаете, птицу никто не угадал, и когда я устно ее описал, и когда показал картинку. Но когда привел цитату из песни, как она кричит: «Чьи вы?! Чьи вы?!» — тут, конечно, сразу все зашумели: «Это — чибис!» Сразу за ней я предложил песню «Черный ворон». Публика тоже стала гадать: ворона, галка, пока не прослушала песню. Неожиданная отгадка третьей песни пришла, как говорится, откуда не ждали — с описанием и картинкой дроздов. Сначала не поняли, а когда я спросил: «А вы слыхали, как поют…», — все сразу: «Дрозды!» Вопросы отпали сами собой. Естественно, никто не смог разгадать и картинку с синей птицей. У нас она не водится, но в природе существует и так и называется «синяя птица», именно так написано в определителе, нашел я ее с трудом. И тут хочу сказать, что порой на своих лекциях и я узнаю что-то новое, благодаря слушателям. Однажды в библиотеке Франко после того, как была исполнена песня, одна слушательница вспомнила: «Когда я жила в Средней Азии, я видела эту птицу, но в природе она там чуть ярче, чем у вас на картинке, — более синяя». Я же картинку поставил ту, которую нашел. Зато даже до исполнения песни, только по картинке, очень легко угадали канарейку. Сначала загалдели: «Это мелочь, что-то не то», — а когда в описании дошел до слов «эта птица у нас водится только в клетке», все в один голос сказали: «Канарейка». И, как ни странно, всегда с большим трудом угадывают малиновку. Собственно, такого названия этой птички в науке не существует, это народное ее название, а научное — зарянка. Но именно малиновку знают все, а зарянку — никто. А вообще, многие птицы были отгаданы, конечно, сразу. Это очень нравилось присутствующим, было приятно и мне.
—А журавли, аисты присутствуют в вашей лекции-конкурсе?
—Конечно!
—А пингвины?
—Этим описанием и песней я обычно заканчиваю встречу. И тут не забуду смешной случай: когда давал описание, некоторые и павлинов, и пеликанов вспоминали, пока дошли до пингвинов, чего только не было, но, наспорившись и насмеявшись, люди получили большое удовольствие так же, как и я.
—Да, Виталий Евгеньевич, посетители центральной библиотеки Октябрьского района, филиала районной библиотеки Киевского района, а также одной из школ на Салтовке — в большом выигрыше. Вроде, далековаты от центра, а благодаря двум музеям оказались по, извините, опять же советским меркам, в лектории общества «Знание». Маэстро, а какой-то градации исполнителей вы придерживаетесь, подбираете их специально? Известно ведь, что некоторые песни берет в свой репертуар не один певец…
—Я постарался взять, конечно, наиболее исполняемые, то есть известные песни и ставшие популярными в исполнении известного же, привычного исполнителя. Хотя… например, песню Евгения Мартынова «Лебединая верность» в исполнении автора и в библиотеке, и в Музее Шульженко попросили в программу не ставить. Сказали: «Будут все рыдать…» Ну что же, руководители этих учреждений лучше знают свою публику, разве можно с ними не согласиться и не пойти навстречу? Поэтому я поставил песню другого автора — Михаила Танича в исполнении группы «Лесоповал» «Я куплю тебе дом». Там тоже речь о лебеде. Мартынов же у меня исполняет свои собственные песни «Ласточки домой вернулись», «Чайки над водой» и «Соловьи поют, заливаются». Кстати, не во всех подобранных мною песнях главные герои — птицы, есть песни и о людях, но в них обязательно упоминается та или иная птица. Например, Филипп Киркоров вместе с ансамблем «Балаган-Лимитед» поет песню «Наивная», где есть слова «…твоею красотой любуются непоседливые воробьи», а Эдуард Хиль исполняет песню «Лесорубы», где есть строка «…только иволга поет по вечерам».
—А еще красивую песню об иволге поет Тихонов в картине Ростоцкого «Доживем до понедельника», а про чайку…
—Я не мог! Не мог поставить несколько песен об одной птице, поэтому выбирал на свой вкус и сам себе такие условия поставил: по одной птице-песне в ухо, как говорят в Одессе. А там много чего предлагали! Но вечер мог бы растянуться на 3–4 часа, поэтому я, повторяю, ограничился 20 песнями.
—А какие песни обычно подпевают?
—Ну, естественно, «Аист» в исполнении Кристаллинской, «Журавли» в исполнении Бернеса, «Прощайте, голуби» в исполнении Дворяниновой и квартета «Аккорд». Кстати, есть еще несколько причин, по которым я не поставил в программу ту или иную песню. Например, «Соловьи, соловьи, не тревожьте солдат…» — грустная песня, так же, как и «Журавли», «Снегири», поэтому я и поставил «Соловьи поют, заливаются». По крайней мере, чтобы под конец вечера немного развеселить публику, составляют ее ведь люди, в основном, немолодые. Они же, между прочим, и оценили, извините, по достоинству мой труд. Чтобы на лекции уверенно произнести, что год рождения песни «Черный ворон» не известен и что это не произведение времен гражданской войны 20‑х годов прошлого века, а казацкая народная песня времен кавказских войн XIX и исполнение ее наиболее известное и близкое нам, сегодняшним, относится к концу 60‑х ушедшего столетия, нужно было немало потрудиться, порывшись в различных информационных источниках. Да и в поисках биологического описания птиц тоже была сложность. Картинки в Интернете на ту же синюю птицу есть, но нужно еще было обратиться к книгам: как, где, что… Песня, сами знаете, так и называется «Синяя птица», а ареал распространения, морфология, то есть, как она кормится, как выглядит, где живет, пути миграции и т. д.
—Вы и это рассказывали?!
—Очень кратко, 1,5–2 минуты на птичку и от 3 до 4,5 — на песню.
—Да-а, не хватает только колибри…
—Мне предлагали и колибри, и марабу, и прочее, но я не могу растянуть программу. Люди привыкли к лекции, экскурсии, творческому вечеру, протяженностью 1,5–2 часа максимум. Я не первый год работаю в музее и знаю наверняка: этот временной лимит не стоит нарушать.
—А если сделать так: сегодня поем о кукушках, завтра — о соловьях, послезавтра — о журавлях?
—Тоже не стоит. Я ведь не только у себя это провожу, а в тех же библиотеках, музеях — свои планы. И потом, не могу же я заниматься только песнями о птицах, хоть мне это и нравится.
—Вопрос последний и самый на сегодняшний день актуальный: как часто вы выезжаете с лекциями в другие организации и платят ли вам за это деньги?
—За что?
—За то, что вы придумали тему, разыскали материалы, подкрепили их информативно и провели экскурсию на выезде.
—Нет, только зарплата. Ни библиотеки, ни Музей Шульженко мне ничего не дают, я это делаю на общественных началах, мне это интересно. А не в стенах нашего музея я провожу лекции по меньшей мере раз в неделю обязательно, а во время школьных каникул — каждый день.
—Виталий Евгеньевич, а вы знаете, что в Харькове есть музеи — музей, — где к служебным обязанностям относятся совсем по-другому?
—Да? А как, где? Кажется, моя очередь просить: расскажите, пожалуйста.
—Не скажу, что с удовольствием, но расскажу обязательно и вам, и читателям. Только это будет уже совсем другая история…





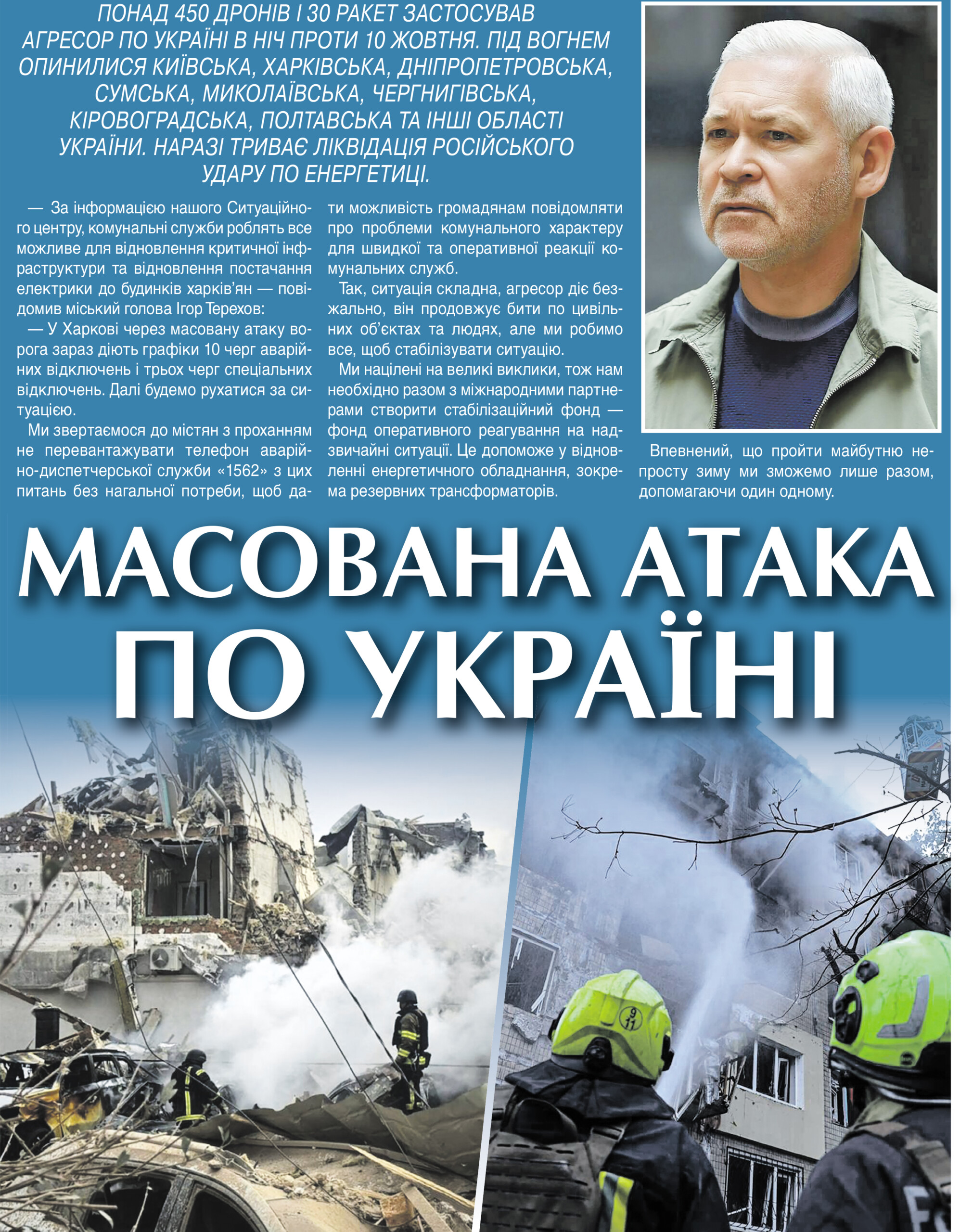 Випуск № 123 (1038) від 11.10.2025
Випуск № 123 (1038) від 11.10.2025






