Твои таланты, Украина!
Организаторы новой выставки в рамках проекта «Харьковские династии», действующего уже 10 лет, что называется, подгадали: в этом году исполняется 100 лет со дня рождения Леонида Ивановича Чернова — слобожанского живописца и 110 лет со дня рождения Александра Дорофеевича Ганжи — подольского гончара. Их дети — Наталья Леонидовна Чернова и Петр Александрович Ганжа, очарованные творчеством родителей, продолжили путь художников, а брак их не просто соединил две семьи, два региона Украины, он объединил несколько направлений в искусстве и продолжил династию в третьем поколении появлением наследника — Тараса Ганжи. Надо сказать, что у Тараса Петровича не только дедушки и родители творческие натуры, а еще и бабушка — Елена Николаевна Яковенко. Посвятив себя искусству, она, как и муж — Л. И. Чернов, работала в жанре живописи и графики.
А в чем же необычность выставки, спросите? Нет, не в том, что в экспозиции представлены 100 произведений двух ветвей семьи Чернова–Ганжи — живопись, графика, керамика из фондов Харьковского художественного музея, частных коллекций и собрания династии, а в том, что вы увидите произведения-эталоны в этих жанрах искусства, вы после, знакомясь с другими авторами, сможете отличить хорошее от плохого. А еще — на вернисаже можно ознакомиться с подборкой статей украинских и зарубежных искусствоведов о творчестве династии и историческими документами советских времен, которые свидетельствуют о жесткой централизации выставочной деятельности в не таком уж далеком прошлом и безжалостном наказании тех, кто рисковал действовать по собственной инициативе.
Ну а наша, редакции, задача в несколько штрихов рассказать о династии, опираясь на художественно-семейные факты, представленные в выставочном зале «Гостиной на Дворянской», и поскольку «молодым везде у нас дорога», так, по крайней мере, должно быть, стало быть, с них и спрос.
—Тарас Петрович, — обращаюсь к младшему представителю династии, — после учебы на факультете иностранных языков Харьковского университета им. В. Н. Каразина вы переехали в Киев, где работали в различных телекомпаниях в качестве редактора. Почему покинули вторую столицу? Многие стремятся туда…
—Причина отъезда из Киева во многом была личная. Вернее, их было несколько, одна из причин — дедова мастерская в Харькове, в которой никто не работал, и, естественно, имеющаяся для меня возможность в ней обосноваться. В Киеве таких условий не было.
—Ваша мама в 1974 году окончила Харьковский художественно-промышленный институт (мастерская монументальной живописи). В эти годы она написала серию портретов, среди них — портрет непревзойденного мастера народной игрушки, знаменитой опошнянки Александры Селюченко, который был куплен Министерством культуры УССР. В одном из интервью она сказала: «С малых лет училась живописи у своих родителей… Родители на всю жизнь стали моими духовными пастырями». И как специалист, и как родной человек не раскроете ли тайну, смысл фразы? Мне кажется, она не так проста.
—Мама, очевидно, хотела сказать вот что… она политкорректно высказала неполиткорректную мысль, что фактически живописная школа утрачена во многом и здесь, и на западе — везде. То есть ее как таковой уже и не существует практически, во всяком случае, некому обучить тому, что раньше считалось живописью, на чем был воспитан и выучен Леонид Иванович, например. Там планка требований гораздо выше была. Очевидно, это она имела в виду. Другое — вряд ли.
—А что, почему? Негде учиться, некому учить, краски, бумаги, холстов не хватает?
—Учителя старшего поколения умирают. Не сохранилось понимание того, что есть в живописи, а чего нет. Это я просто сейчас «живописью» называю обычную раскраску. То есть это не совсем то, что имелось в виду раньше под словом «живопись».
—А что вы сами уже сделали такого, достойного, чем без ложной скромности гордитесь?
—Что-то достойное предков я, может быть, сделал в керамике, потому что в живописи мне, конечно, никогда не удастся сравняться с дедами и бабушкой. Здесь я еще, очевидно, не сделал ничего.
—Тогда самое время спросить вас о планах, можно?
—Нет, ну а как об этом можно говорить? Это может или получиться, или не получиться. Это же рабочий процесс!
—Тогда поясните, пожалуйста, еще одну мамину фразу «училась видеть мир глазами творца».
—Художника.
—А ваша позиция в этом смысле?
—Нужно стараться, мне кажется, соответствовать некому уровню понимания живописи, который, как я уже сказал, утрачен. Я могу только сказать, что нужно стараться соответствовать изо всех сил. Но это не всегда получается.
—Тарас Петрович, вы и художник, и ткач, и керамист! Понятно, что яблоко от яблоньки, как говорится, но все-таки, как в вас все это сочетается?
—Тут, я думаю, несложно все это объяснить понятными вещами, потому что и отец, и мама заканчивали монументальный факультет, а это предполагает исполнение мозаики, керамики, выполнение каких-то больших объектов, как, например, в Харькове двух станций метро «Киевская» и «Студенческая», в Киеве — «Корнейчука», ныне «Оболонь». Я был тогда недостаточно взрослым, чтобы оценить их работы, принимать в них активное участие. Но такие сложные проекты именно и предполагают работу с разными материалами. И в жизни, на практике, кстати, так и случается, когда художник‑монументалист самолично делает ковку, много чего другого и т. д. Моему отцу однажды пришлось лично начать делать ковку, потому что заказ, предназначавшийся для метро в Киеве, ему пришлось делать самому, поскольку исполнители, предоставленные худфондом «исполнили» то, что он не считал возможным показать людям.
—Тарас Петрович, вопрос, напрашивающийся сам собой: а если в соответствии с «законом о декоммунизации» сдерут, собьют или отковыряют мозаику ваших родителей? Не какого-то незнакомого автора, а именно ваших родителей?
—Да, было уже такое. Полностью была сбита станция метро, она должна была называться «Левада», сейчас «Проспект Гагарина», там было керамическое панно, цветочный орнамент, на всю длину перрона. Но начальство решило, что он, так сказать, более национальный, чем требуется, и его приказали сбить, переименовать станцию и проспект. Я был еще совсем мал, это в 70‑е годы.
—О! Прошло 45 лет — и опять крен, только в другую сторону. Как это будет?.. Хорошо ли?..
—Я думаю, что точно так же. Но, что касается нашей семьи, то дело в том, что ни одна из работ — родителей, деда, бабушки не отображали соцреализм, у них ничего такого нет, поэтому они не попадают под действие закона, нигде ни в каком виде.
—Вы уже можете как художник определить свои сильные стороны?
—Я не знаю, как это происходит у других художников, но, насколько я знаю свою семью, ни я, ни родители, тем более дед и бабушка ни разу не были довольны только что законченной работой. То есть вот такая позиция: вы никогда не бываете довольны своей только что законченной работой. Они — в силу того, что высоки. Я… к сожалению, поздно этим занялся, периоды у меня спрессовались, но постепенно все раскладывается по полочкам…
—Маэстро, вы давно знакомы с устроителями выставки, как вы и ваши работы чувствуют себя в зале «Гостиной на Дворянской?
—К сожалению, нет, не очень давно. Но, оказалось, с ними хорошо иметь дело. Скажу честно, я не рассчитывал на такую удачу, поскольку, вообще, изначально очень скептически отнесся к идее. Нам сообщили о готовящейся выставке менее чем за две недели. Так обычно никогда не делается, обычно за полгода начинается работа над подготовкой любой выставки. Но я не знаю, почему так случилось, честное слово, я не думал, что в итоге все пройдет так хорошо! Впрочем, знаю. Для этого нужно, конечно, иметь очень мощные организаторские способности, чтобы все прошло без сучка, без задоринки, суметь провести подготовку в столь сжатые сроки. Так что и по-человечески, и профессионально все было очень хорошо. Экспозицию делала сама хозяйка Гостиной, Людмила Васильевна Рубаненко. Особо спорить с ней мы даже не пытались, по сути каждый раз она оказывалась права, потому что у нее хороший художественный вкус. Но главное, что приятно удивляет, располагает и вдохновляет, — человек ценит и сам понимает важность того, чем занимается, а именно, что Харьков, потеряв культуру, будет просто деградировать. Неизбежно будет деградировать! Поэтому такие проекты, как у Людмилы Васильевны, всячески нужно поддержать и стараться помогать ей. Тем более, вы же знаете, с ней обычно очень легко и просто работается.
—И все-таки, Тарас Петрович, о некоторых ваших планах известно, поэтому с чистой совестью их обнародую: вы сейчас пытаетесь разобраться в дедушкиных архивах и подготовить их к изданию.
—Да, это будет двухтомник, один из них — воспоминания, мемуары, которые по сути представляют историю художественного образования в Харькове.
—Как интересно!
—Да. Но там еще очень много работы, потому что, оказалось, огромные массивы, пласты, что-то необходимо отсеивать, что-то выбирать — это адский труд. Хотя, повторюсь, это вдохновляет и обязывает, поскольку дает возможность напоминать о культуре и деградации в Харькове, связанной сейчас, извините, с отсутствием первой. Ну и поскольку это будет, планируется, по крайней мере, быть историей художественного образования, станет понятным и даже зримым, чем был Харьков в 30‑е годы прошлого века и до какого состояния, опять же, неполиткорректно говоря, он дошел сегодня.
В довершение к сказанному хочется привести несколько высказываний представителей старшего поколения династии Чернова и Ганжи, в них труд ремесленника, поэзия творца, позиция гражданина — главное, что отличает этих мастеров. «Якось батько приїхав до мене в Київ, i я вирiшив повести його на виставку всесвiтньовiдомого французького скульптора Бурделя, що саме вiдкрилася в Музеї українського образотворчого мистецтва, — згадує син гончара Олександра Ганжi заслужений художник України Петро Ганжа. — Ходив вiн, ходив, дивився, дивився i каже: «А що? I я б так зробив!» После о мастере писали: «Ось що значить народний майстер — вiн не знає страху, не боїться в своєму ремеслi нiяких труднощiв, бо творить легко й природно, як ходить, як дихає, вiльно переливаючи свої чуття в матерiал. Таким був Олександр Ганжа, гончар з дiда-прадiда, який прославився дивовижною глиняною пластикою, небаченою до нього не лише у рiдних Жорнищах, що на Вінничинi, а й по всiй Українi».
И еще, так тепло вспоминает о своем учителе Семене Марковиче Прохорове (в то время Харьковского художественного института) благодарная ученица Елена Николаевна Яковенко: «Дуже цiкавою людиною був Семен Маркович. Любив музику, чудово читав напам’ять Пушкiна, цiкаво розповiдав про своє навчання в Академiї…»; продолжая сказанное, уже будучи зрелым мастером, заключает: «Писати пейзажнi речi треба з настроєм, iнакше — грiш їм цiна».

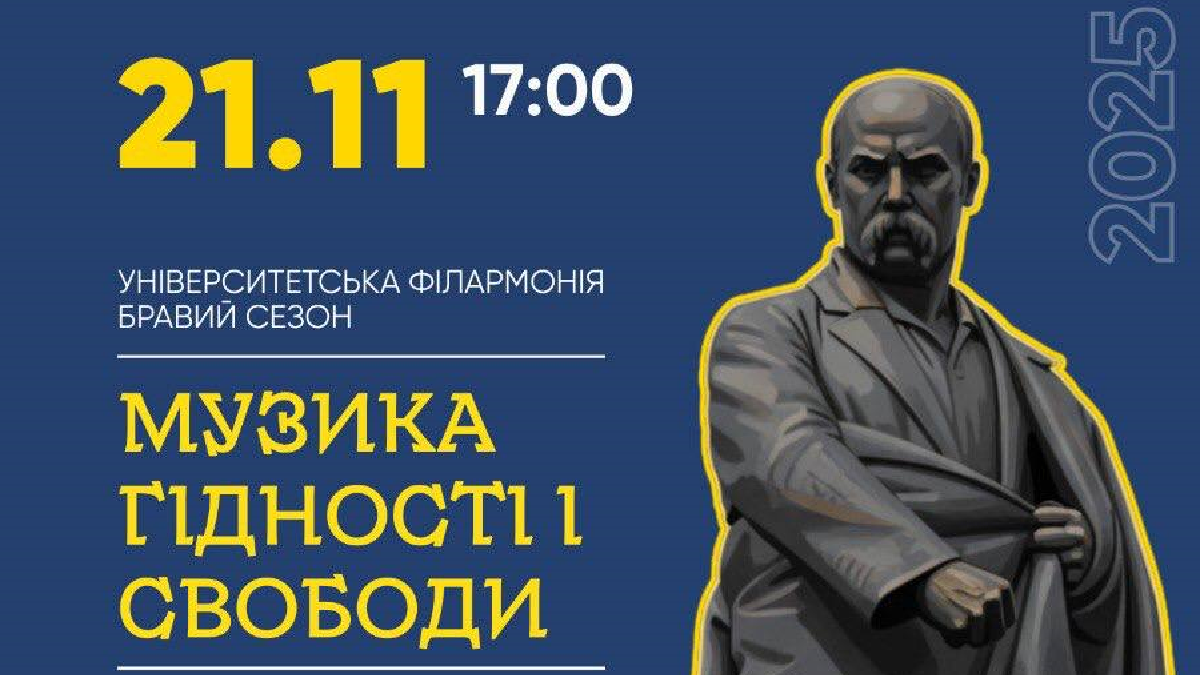
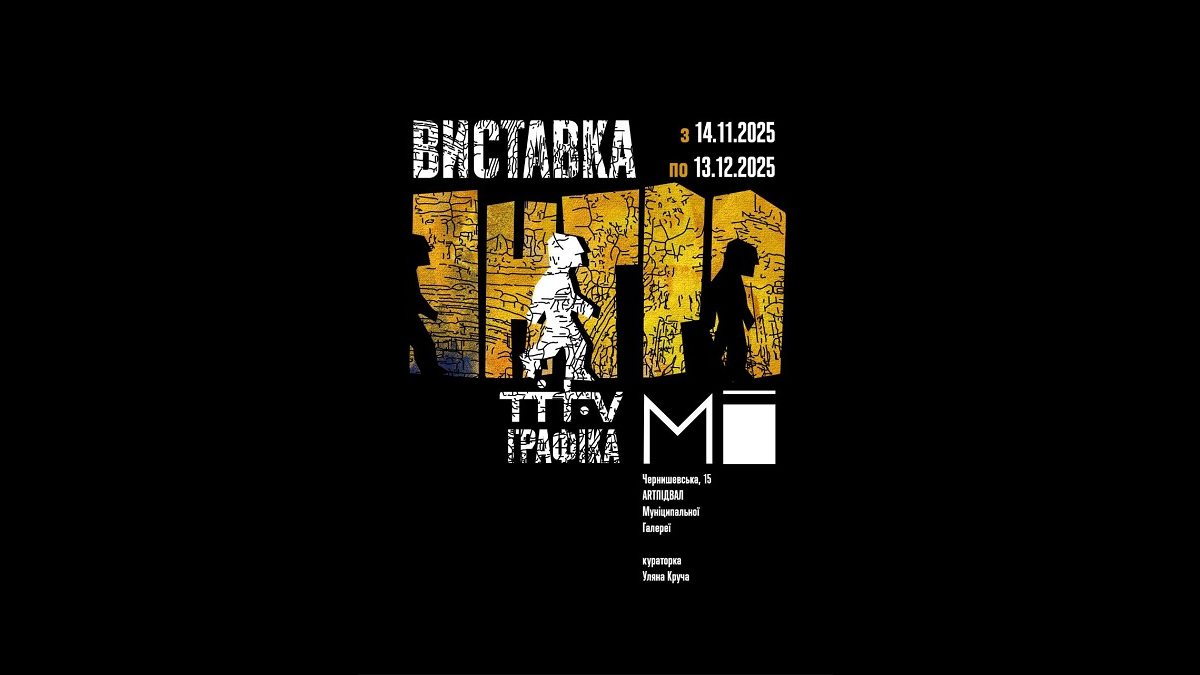


 Випуск № 144 (1059) від 02.12.2025
Випуск № 144 (1059) від 02.12.2025






